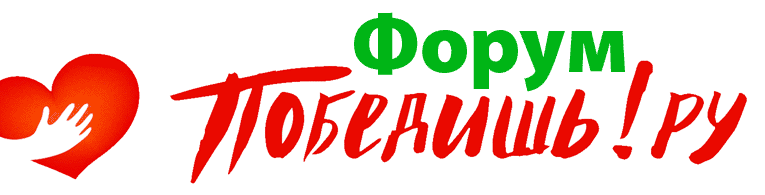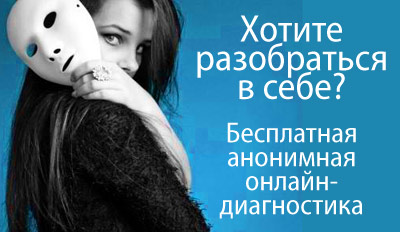Татьяна Еремина "Игумен с севера"
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Татьяна Еремина "Игумен с севера"
Их называли преподобными
Исторические были
Игумен с севера
скачать книгу можно тут: https://narod.ru/disk/8899913000/%D0%98% ... 0.doc.html
ГОРЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
(Из летописей Симеоновской, Первой Новгородской, Патриаршей)
В лето 6953 (весной 1445 года) к великому князю Василию Васильевичу, внуку Дмитрия Донского, пришла на Москву весть: послал на него ордынский хан Улу-Махмет своих сыновей, Мамутяка и Ягуба, а сам осадил Нижний Новгород. Заговев Петрово гове-ние, выступил великий князь против них со своею ратью. Пришел он к Юрьеву, и тут прибежали к нему воеводы нижегородские, князь Феодор Долгов да Юшка Драница, Зажгли они ночью град и ночью же бежали, потому что уже изнемогали от голода великого: что было запасу хлебного, то все съели, и уже невозможно было терпеть голод и татарское правление, как говорится в летописи — «истомление от татар».
Великий князь Василий Васильевич пробыл на отдыхе в Юрьеве весь Петров день, а потом пошел к Суздалю, призывая к себе князей своих. И пришли к нему братья-князья из отчин своих: князь Иван Андреевич Можайский, да князь Михайло Андреевич Верейский, да князь Василий Ярославич Боровский, внук Владимира Храброго, что сражался вместе с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Пришли и многие другие воеводы со своими людьми. Подошли они к Суздалю и стали на реке Каменке со всею своею силою. Было это месяца июля в 6-й день, во вторник. В тот же день всполох учинился. Возложив на себя доспехи и подняв знамена, выступили они в поле, но немного было воинства у них. Князь же великий Василий Васильевич возвратился в стан свой, ужинал со своей братией и боярами и долго ночью что-то писал.
Собрались и еще воеводы: вечером пришел Алексей Игнатьевич с полком своим, и многие другие воеводы отовсюду приходили.
Утром 7 июля, едва солнце взошло, встал великий князь и повелел петь заутреню. После заутрени намеревался Василий Васильевич еще вздремнуть, но в тот же час пришла к нему весть, что татары переходят вброд реку Нерль. Начал он гонцов во все станы рассылать, сам воздел на себя доспех воинский и, подняв знамя великокняжеское, пошел против татар. И брат его двоюродный князь Иван Андреевич Можайский, и князь Михайло Андреевич Верейский, да князь Василий Ярославич, шурин его, за великим князем пошли. И все князья, и бояре, и воеводы, и все полки, одевшись в свои воинские доспехи, пошли за ним сражаться против татар.
Выступили в поле, но мало было войска у великого князя против татарского: всего-то полторы тысячи, поскольку не успели все полки соединиться. Не успел прийти царевич Бердедата, в ту ночь отдыхал он в Юрьеве; Не пришел и князь, двоюродный брат Дмитрий Шемяка, и полков своих не прислал.
Вышло войско великого князя на поле близ Евфимьева монастыря и тут встретилось с окаянными агарянами-татарами. Было их множество много пред христианскими полками. Сразились. Сначала начали полки великого князя одолевать недругов, и татары побежали. Одни из наших погнались за татарами, другие же начали избитых татар грабить. Но татары собрались с силами, снова повернули на христиан и одолели их.
Князя великого схватили. Мужественно бился он, но многие раны на голове и на руках ослабили его, да и все тело было сильно бито. Схватили и князя Михаилы Андреевича, и прочих многих князей, и бояр, и детей боярских, и прочих воинов.
А князь Иван Андреевич, раненный много, был сбит с коня своего, но подали ему другого, и бежал он от врагов.
Случилось это зло великое над христианами в день 7 июля, в среду. Много тогда татар было побито, более пятисот, и было их вдвое больше русских воинов. Татары устремились в погоню, многих побили и ограбили, а села пожгли, людей изрубили, а иных в плен повели.
Царевичи татарские стали в Евфимьевом монастыре. Привели к ним великого князя, а они сняли с него нательный крест и послали в Москву к матери его великой княгине Софье Витовтовне и к его жене великой княгине Марии с татарином Ачисаном.
Прискакал тот в Москву, отдал крест великой княгине, и был тут плач великий и рыдание многое не только матери и жене великого князя, но и всему христианскому люду.
Татары стояли в Суздале три дня, потом пошли к Владимиру. Перешли Клязьму и стали против града, никого к Владимиру не пуская. А потом пошли к Мурому, а от него к Новугороду Нижнему.
Того же месяца июля в 14-й день, в среду, загорелось в Москве, в середине града, ночью. И выгорел град весь, так что ни единого строения деревянного не осталось, но и церкви каменные распадались, и каменные городские стены упали во многих местах, и людей сгорело многое множество: священноиноков и священников, иноков и инокинь, мужей, жен и детей, ибо в городе был огонь, а выйти из города боялись из-за татар. Казны много сгорело и бесчисленное множество товару всякого, потому что торговых людей пришло тогда в Москву много, чтобы здесь в осаде скрыться от татар.
Из сгоревшего города великая княгиня Софья и великая княгиня Марья с детьми и боярами своими пошли ко граду Ростову. Горожане же были в великом смятении: кто мог, оставив град, бежали, а чернь, объединившись, начала прежде всего делать городские ворота. Желающих же бежать из града начали ловить, и бить, и в цепи заковывать. Так остановилось волнение, и все сообща начали город укреплять и строить снова дома.
Царь же Улу-Махмет с детьми своими и со всею своею Ордой пошел из Новгорода к Курмышу, уведя с собой и великого князя, и князя Михаила. Послал он посла своего Бигича к князю Дмитрию Шемяка. Тот был рад и воздал послу много чести, ибо желал быть великим князем. Отпустил он посла, а с ним послал своего человека, дьяка Феодора Дубенского, чтобы тот уговорил царя татарского Улу-Махмета не отпускать Василия Васильевича на великое княжение. Но тут Господь Бог, всемогущий и милостивый и благий человеколюбец, увидев такое немилосердие и зломыслие на своего брата и господина, преложил на кротость сердца безбожных и беззаконных христианогубителей-агарян, а посол от Шемяки был убит, еще не дошедши до татар.
В лето 6954 (1446) царь Улу-Махмет и сын его Мамутяк пожаловали великого князя: снова утвердили его на великом княжении, и с крестным целованием обещал он выкуп за себя дать, сколько может. Отпустили его с Курмыша на Покров Пресвятой Богородицы, 1 октября, и князя Михаила с ним, и прочих, сколько с ним было. А еще послали с великим князем множество своих людей: князя Сеит-Асана, и Утеша, и Кураиша, и Дылхозю, и Айдара, и иных.
Отойдя на два дня пути от Курмыша, послал великий князь в Москву, к матери своей, великой княгине Софье, и к жене его, великой княгине Марье и детям своим Андрея Плещеева с известием, что царь ордынский снова его пожаловал, отпустил на великое княжение, на свою отчину.
Пойман был татарин Бигич, направлявшийся от Дмитрия Шемяки, и закован в оковы. Услышав о том, князь Дмитрий Шемяка бежал в Углич.
А великий князь пришел в Муром, побыл там недолго и пошел ко Владимиру, и была радость великая всем градам русским. Когда же прибыл он в Переяславль, там были и мать его, великая княгиня Софья, и жена его великая княгиня Марья, и сыновья его князь Иван и князь Юрий, и все князья его, и бояре, и дети боярские и много людей от всех городов.
Взял с него ордынский царь, как пишет Новгородская летопись, выкуп двести тысяч рублей, а сверх того — Бог ведает да они.
И еще пишут летописи, что 1 октября, в тот день, когда был отпущен великий князь из Курмыша, в шесть часов утра трясло град Москву, и Кремль, и посад весь, даже храмы поколебались. Некоторые люди, крепко спавшие, не слышали это; а многие же, не спавшие и слышавшие все, пребывали в большой скорби и боялись уж жизни лишиться. Наутро со слезами рассказывали они несведущим о сем великом землетрясении.
Великий же князь пришел на Москву месяца ноября в 17-й день и стал на дворе матери своей за городом, на Ваганькове. Потом оттуда вошел во град, на двор князя Юрия Патрикеевича.
Князю же Дмитрию Шемяке вложил дьявол в голову мысль хотеть великого княжения. Послал он к князю Ивану Можайскому посла со словами, что татарский царь отпустил великого князя, потому что великий князь целовал крест царю в том, чтобы сам царь сидел на Москве и на всех градах русских, и на наших отчинах, а сам князь Василий Васильевич хочет сесть в Твери.
И так по наущению дьявола посылал он гонцов своих ко многим князьям, задумавши сие со своими злыми советниками, не хотевшими добра своему государю и всему христианству. С теми же речами послали и к князю Борису Тверскому. Тот, услышав недобрую весть, убоялся и примкнул к заговорщикам, ибо не хотел потерять свою отчину Тверь. Вкупе с Дмитрием Шемякой были и многие бояре и гости в Москве, были и от чернецов в том заговоре с ними.
Начал князь Дмитрий Шемяка со своими советниками тайно вооружаться и искать удобного случая, чтобы изгнать великого князя. Такой случай вскоре представился.
Захотел великий князь пойти поклониться Живоначальной Троице и мощам чудотворца Сергия. Вот и пошел он со своими благородными чадами, с князем Иваном и князем Юрием, и с небольшим числом людей своих, не думая ни о чем ином, кроме как накормить братию той великой лавры и воздать хвалу Богу в обители преподобного Сергия за свое освобождение из татарского плена.
Изменники же, бывшие в Москве, каждый день посылали князю Дмитрию Шемяке и Ивану Можайскому вести из града. Они же, соединившись, стояли на Рузе, изготовившись, как собаки на лов или как дикие звери, хотящие насытиться кровью человеческой.
Пришла к ним весть, что великий князь отошел из града, и в тот же час они изгоном пошли к Москве и пришли туда февраля месяца в 12-й день, в субботу, в 9-м часу ночи и взяли град. И не было в нем никого, противящегося им, и никого, ведающего о нападении. Были только единомышленники Шемяки, которые и отворили град.
Нечестивые, вошедшие во град, взяли в полон великую княгиню Софью и великую княгиню Марию, разграбили казну великого князя и матери его, а бояр, бывших тут, тоже хватали и грабили, как и многих других горожан.
В ту же ночь послал князь Дмитрий князя Ивана Можайского изгоном в Троицу со многими людьми своими, чтобы захватить там великого князя. И вот в самую литургию, в воскресенье, примчался к великому князю человек, которого звали Бунком. Поведал он Василию Васильевичу, что идет на него с войском князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский с ратью. Но не было ему веры, ибо тот Бунко незадолго до этого отъехал к князю Дмитрию Шемяке. Великий князь сказал ему: «Что ты смущаешь нас? Я со своим братом Дмитрием в крестном целовании, разве может быть, чтобы шли они сюда по мою душу?»
Повелел он того Бунка из монастыря выгнать и воротить его назад, и как бывшего изменника начали вооруженные сторожи его бить. А князь великий, хоть и не имел к Бунку веры, все-таки послал сторожей к Радонежу. Придя туда, стали они на горе, над Радонежем, стеречь дорогу. Но ратные люди Шемяки и Ивана Можайского узнали их издалека, а великокняжеские сторожи тех не усмотрели, ибо не имели веры вестям о нападении Шемяки.
Люди Шемякины сказали князю Ивану, что стоят сторожи Василиева на горе над Радонежем. Пошел Иван Можайский на хитрость: велел снарядить много возов с рогожами и полостями, и в каждом из них скрывались по два вооруженных человека в доспехах. Третий же шел позади, как бы за возом. И как передние миновали уже сторожей, так выскочили из саней воины и побили караул. А бежать людям великого князя было некуда, поскольку снег тогда был очень большой, в девять пядей.
Вскоре люди Шемяки помчались к монастырю. Скакали они на конях с горы к селу Клементьевскому, как на лов сладкий. Увидел их великий князь, побежал на конюшенный двор, да не было ему там коня приготовлено, так как сам в ложь брата своего не поверил. Надеясь на крестное целование, не приказал он себе ничего готовить к уходу. Люди все в унынии великом были и будто в оторопи. Так они удивились, что застыли в изумлении. Увидел великий князь, что нет ему ниоткуда помощи, и пошел быстро в каменную церковь Святой Троицы, что была на монастырском дворе.
Пономарь же, именем Никифор, инок, пришел и открыл церковь. Князь великий вошел туда, а монах, закрыв его, отошел и спрятался.
Убийцы, как свирепые волки, ворвались в монастырь на конях, и прежде всех Никита Константинович. Он прямо на коне на лестницу к передним дверям церковным взобрался, но тут упал с коня и ударился о камень, который перед церковными дверьми был вделан на помосте. Прибежав, прочие люди Шемяки подняли его. Он же, едва отдышавшись, был как пьян, и лицо у него было, как у мертвеца.
Тут уж и сам князь Иван Можайский въехал в монастырь, и все воинство его. Начал спрашивать князь Иван, где великий князь. Князь же великий, услышав в церкви голос князя Ивана, закричал сильно, говоря: «Брат, помилуй мя! Не лишай возможности зреть образ Божий и Пречистой Его Матери и всех святых Его. Не уйду я из монастыря сего и постригусь в монахи здесь!»
Пошел он к дверям южным, отпер их сам и, взяв икону, что была на гробе святого Сергия — Явление Пресвятой Богородицы с двумя апостолами святому Сергию,— встретил князя Ивана в дверях церкви, говоря: «Брат, целовали мы животворящий крест и сию икону в этой церкви Живоначальной Троицы, у гроба чудотворца Сергия, чтобы не мыслить нам, не хотеть никому из братии между собой никакого лиха. И вот теперь не ведаю, что будет со мною». Князь же Иван ответил ему: «Господин государь, если мы восхотим тебе какого лиха, пусть будет над нами лихо; но се творим для христиан и твоего откупа: видевши сие, татары, пришедшие с тобою, облегчат выкуп, который ты должен отдать царю».
Князь же Василий, поставив икону на место, пал ниц у гроба чудотворца Сергия, слезами обливая себя, и вздыхая, и захлебываясь от крика, что дивились всему бывшему тут люди и слезы испускали. А князь Иван, чуть поклонившись святым иконам в церкви, вышел и сказал Никите: «Возьми его».
Великий князь, помолившись, встал и, оглядевшись, спросил: «Где брат мой князь Иван?» Злой раб, немилосердный мучитель Никита взял великого князя за плечо и произнес: «Пойман ты великим князем Дмитрием Юрьевичем».
Великий князь в ответ кротко сказал: «Воля Божья да будет».
Вывел его злодей из церкви и увел из монастыря. Посадил в голые сани, а напротив — чернеца, и так поехали они к Москве. Бояр же великого князя всех поймали и, ограбив, нагих отпустили. А сыновья великого князя, князь Иван и князь Юрий, схоронились в том же монастыре. Кровопийцы, словно уловивши некий сладкий улов, о сыновьях не вспоминали и не спрашивали о них.
В эту же ночь князь Иван и князь Юрий с оставшимися у них людьми побежали к князю Ивану Ряполовскому в Юрьев, в село его Боярово. Князь же Иван Ряполовский с братьями Симеоном и Дмитрием и со всеми людьми отвез великокняжеских детей в Муром и там затворился.
Великого князя Василия Васильевича в понедельник, в ночь 14 февраля, привезли в Москву и посадили на дворе на Шемякиной; сам же князь Дмитрий Шемяка стоял на дворе на Поповкине. В среду на той же неделе на ночь ослепили великого князя и отослали в Углич с его княгинею. А мать его, великую княгиню Софью, послали в Чухлому. Услышав это, князь Василий Ярославич Боровский, шурин Василия Васильевича, ставшего теперь именоваться «Темным», побежал в Литву, а с ним князь Семен Иванович Оболенский. Прочие же дети боярские и все люди били челом Дмитрию и стали ему служить. Он же их всех привел к крестному целованию.
Один Федор Басенок не хотел служить Дмитрию Шемяке. Злодей возложил на него железа тяжкие и приставил к нему сторожей. Федор подговорил пристава своего и убежал из желез; пошел к Коломне и там скрывался у своих приятелей. Многих людей уговорил он присоединиться к нему и, пограбив уезды Коломенские, бежал в Литву.
Пришел он в Брянск (Дебренеск) к князю Василию Ярославичу. Этот город дал король Казимир князю Василию в вотчину, да Гомель, да Стародуб, да Мстиславль и многие иные места. А князь Василий Ярославич дал Брянск князю Семену Оболенскому да Федору Басенку.
Услышал князь Дмитрий Шемяка в Москве, что дети великого князя, придя, сели в Муроме со многими людьми. Но не захотел он посылать на них войско — боялся, ибо все люди негодовали от того, что он занял великокняжеский престол. Мыслили и о заговоре против него потому, что хотели великого князя Василия видеть на своем государстве.
Тогда князь Дмитрий призвал к себе на Москву епископа рязанского Иону, а когда тот пришел, пообещал ему митрополию и начал уговаривать: «Отче, иди в свою епископию, в град Муром, и возьми детей великого князя на свою епитрахиль. Я буду рад их жаловать. Отца их, великого князя, выпущу и вотчину дам хорошую, чтобы было у них все, что надобно».
Согласившись, владыка Иона пошел к Мурому на судах. Пришел он в Муром и начал говорить те же речи боярам детей великого князя, трем князьям Ряполовским и другим, бывшим тут. Бояре, много о том думая, сказали сами себе: «Если мы святителя не послушаем, не пойдем к князю Дмитрию с детьми великого князя, то придет он сам с ратью, город возьмет и, детей великого князя поймав, сотворит им, что захочет, а также и отцу их, великому князю, и всем нам. И во что превратится крепость наша, если не послушаем мы слов святительских?»
Тогда сказали бояре владыке Иону: «Хоть и пришел ты к нам со словами добрыми от князя Дмитрия к нашим государям, детям великого князя, да и к нам, но не дерзнем отпустить с тобой детей великого князя без клятвы («без крепости»). Пойдем в соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и с пелены, на которой будут стоять дети, возьми их на свою епитрахиль. Тогда отпустим их с тобою и сами с ними пойдем».
Владыка обещал все так и сделать. Войдя в церковь, начал он молиться Пресвятой Богородице и, совершив молебен, взял детей с пелены у Пречистой на свою епитрахиль. Иона пошел с ними к князю Дмитрию в Переяславль Рязанский, где тот был, и пришел туда месяца мая в шестой день.
Князь же Дмитрий немного почтил детей великого князя, с лестью на обед их к себе звал и одарил их, а на третий день с тем же владыкой Ионою послал к отцу в Углич в заточение.
Епископ Иона отправился с детьми к великому князю, оставил их там и возвратился к князю Дмитрию. Тот же повелел Ионе идти в Москву и сесть на дворе митрополичьем. Иона так и сделал.
А князья Ряполовские, Иван и братья его Симеон и Дмитрий, увидев, что Шемяка слово свое изменил и во всем солгал владыке, начали мыслить, как бы князя великого из заточения вызволить. С ними заодно были тогда и князь Иван Васильевич Стрига, да Иван Ощера с братом Бобром, да Юшко Драница и многие другие дети боярские двора великого князя. И еще был с ними Семен Филимонов со всеми детьми, да Русалка, да Руно и другие дети боярские.
Назначили они срок: всем быть под Угличем на Петров день в полдень. Семен Филимонов со всеми своими пришел в срок, а про Ряполовских стало известно князю Дмитрию Шемяке, так что не осмелились идти они к тому сроку под Углич, а пошли за Волгу к Белуозеру. Князь Дмитрий послал за ними из Углича рать с Василием Вепревым, да Федора Михайловича послал за ними со многими отрядами. Срок им был сойтись вместе на устье Шексны в день Всех Святых. Федор не успел к Василию, а Ряполовские, повернув полки на Василия Вепрева, побили его на устье реки Мологи.
Федор в ту пору перешел Волгу и пошел к устью Шексны со всеми полками своими. Ряполовские узнали про то и на него поворотилися. Федор же, увидев их, опять побежал за Волгу. А Ряполовские пошли по Новгородской земле к Литве и пришли ко князю Василию Ярославичу во Мстиславль. Семен Филимонов со всеми своими от Углича пошел к Москве, ничего не зная о своих соратниках, князьях Ряполовских. Один Руно повернул от него вслед за Ряполовскими.
Пришли князья Ряполовские, да князь Иван Стрига и прочие дети боярские, о которых ранее говорилось, к князю Василию Ярославичу и начали совет держать, как бы вызволить великого князя.
А князь Дмитрий Шемяка, видя, что многие люди отступаются от него, послал гонцов ко всем владыкам-епископам и созвал совет. Начал он с князем Иваном, епископами и боярами думать, не выпустить ли ему великого князя. А владыка Иона, не переставая, каждый день говорил ему: «Учинил ты неправду, меня во грех ввел и в срам; обещал великого князя выпустить, а сам и детей его с ним посадил. Дал ты мне свое правое слово, они меня послушали, а нынче я во лжи пребываю. Выпусти его, сними грех с моей души и со своей. Что он может учинить без глаз? А детки его еще малы. Да укрепи его, заставь его поклясться на честном кресте в присутствии нашей братии, владык, что не будет умышлять против тебя». Много другого говорил он еще. Князь же Дмитрий, подумав о том, решил выпустить великого князя и дать ему вотчину, чтобы было ему чем жить.
А у великого князя в то лето родился на Угличе сын Андрей, месяца августа в 13-й день.
Пришел князь Дмитрий Шемяка в Углич, чтобы выпустить великого князя и детей его из заточения. Пошли с ним и все епископы, и честные архимандриты, и игумены. Придя в Углич, выпустил он великого князя и его детей, каясь и прося прощения. А князь великий перед ним смирился и, сам на себя вину возлагая, говорил: «Как же мне было не пострадать грехов моих ради и беззаконий многих и преступлений в крестном целовании перед вами, пред всею старейшею братией и пред всеми православными христианами. Многих я погубил и еще погубить хотел до конца. Достоин я был смертной казни, но ты, государь мой, оказал мне милосердие, не погубил меня с беззакониями моими, и вот каюсь я во многих злах моих...» Говорил это и многое другое, чему числа нет... Все бывшие тут дивились такому смирению и взирали на него с умилением, а когда говорил, слезы текли из очей многих, как быстрые реки.
Потом князь Дмитрий в честь великого князя, великой княгини и детей их велел сотворить пир великий. И были там все епископы земли русской, и бояре многие, и дети бояр. Честь великую учинил Дмитрий Шемяка великому князю, и дары многие подавал и самому Василию, и княгине, и детям их, и дал в вотчину великому князю город Вологду со всеми селами и деревнями и отпустил туда великого князя со княгинею и с детьми.
Князь же великий, придя в Вологду, пробыл там недолго и пошел со всеми своими в Кириллов монастырь, чтобы бывшую там братию накормить и милостыню дать.
Услышав то, бояре князя великого, и дети боярские, и люди многие побежали от князя Дмитрия и от князя Ивана к великому князю Василию Васильевичу, ибо нельзя таковому государю в таковой дальней пустыни заточенным быти.
Исторические были
Игумен с севера
скачать книгу можно тут: https://narod.ru/disk/8899913000/%D0%98% ... 0.doc.html
ГОРЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
(Из летописей Симеоновской, Первой Новгородской, Патриаршей)
В лето 6953 (весной 1445 года) к великому князю Василию Васильевичу, внуку Дмитрия Донского, пришла на Москву весть: послал на него ордынский хан Улу-Махмет своих сыновей, Мамутяка и Ягуба, а сам осадил Нижний Новгород. Заговев Петрово гове-ние, выступил великий князь против них со своею ратью. Пришел он к Юрьеву, и тут прибежали к нему воеводы нижегородские, князь Феодор Долгов да Юшка Драница, Зажгли они ночью град и ночью же бежали, потому что уже изнемогали от голода великого: что было запасу хлебного, то все съели, и уже невозможно было терпеть голод и татарское правление, как говорится в летописи — «истомление от татар».
Великий князь Василий Васильевич пробыл на отдыхе в Юрьеве весь Петров день, а потом пошел к Суздалю, призывая к себе князей своих. И пришли к нему братья-князья из отчин своих: князь Иван Андреевич Можайский, да князь Михайло Андреевич Верейский, да князь Василий Ярославич Боровский, внук Владимира Храброго, что сражался вместе с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Пришли и многие другие воеводы со своими людьми. Подошли они к Суздалю и стали на реке Каменке со всею своею силою. Было это месяца июля в 6-й день, во вторник. В тот же день всполох учинился. Возложив на себя доспехи и подняв знамена, выступили они в поле, но немного было воинства у них. Князь же великий Василий Васильевич возвратился в стан свой, ужинал со своей братией и боярами и долго ночью что-то писал.
Собрались и еще воеводы: вечером пришел Алексей Игнатьевич с полком своим, и многие другие воеводы отовсюду приходили.
Утром 7 июля, едва солнце взошло, встал великий князь и повелел петь заутреню. После заутрени намеревался Василий Васильевич еще вздремнуть, но в тот же час пришла к нему весть, что татары переходят вброд реку Нерль. Начал он гонцов во все станы рассылать, сам воздел на себя доспех воинский и, подняв знамя великокняжеское, пошел против татар. И брат его двоюродный князь Иван Андреевич Можайский, и князь Михайло Андреевич Верейский, да князь Василий Ярославич, шурин его, за великим князем пошли. И все князья, и бояре, и воеводы, и все полки, одевшись в свои воинские доспехи, пошли за ним сражаться против татар.
Выступили в поле, но мало было войска у великого князя против татарского: всего-то полторы тысячи, поскольку не успели все полки соединиться. Не успел прийти царевич Бердедата, в ту ночь отдыхал он в Юрьеве; Не пришел и князь, двоюродный брат Дмитрий Шемяка, и полков своих не прислал.
Вышло войско великого князя на поле близ Евфимьева монастыря и тут встретилось с окаянными агарянами-татарами. Было их множество много пред христианскими полками. Сразились. Сначала начали полки великого князя одолевать недругов, и татары побежали. Одни из наших погнались за татарами, другие же начали избитых татар грабить. Но татары собрались с силами, снова повернули на христиан и одолели их.
Князя великого схватили. Мужественно бился он, но многие раны на голове и на руках ослабили его, да и все тело было сильно бито. Схватили и князя Михаилы Андреевича, и прочих многих князей, и бояр, и детей боярских, и прочих воинов.
А князь Иван Андреевич, раненный много, был сбит с коня своего, но подали ему другого, и бежал он от врагов.
Случилось это зло великое над христианами в день 7 июля, в среду. Много тогда татар было побито, более пятисот, и было их вдвое больше русских воинов. Татары устремились в погоню, многих побили и ограбили, а села пожгли, людей изрубили, а иных в плен повели.
Царевичи татарские стали в Евфимьевом монастыре. Привели к ним великого князя, а они сняли с него нательный крест и послали в Москву к матери его великой княгине Софье Витовтовне и к его жене великой княгине Марии с татарином Ачисаном.
Прискакал тот в Москву, отдал крест великой княгине, и был тут плач великий и рыдание многое не только матери и жене великого князя, но и всему христианскому люду.
Татары стояли в Суздале три дня, потом пошли к Владимиру. Перешли Клязьму и стали против града, никого к Владимиру не пуская. А потом пошли к Мурому, а от него к Новугороду Нижнему.
Того же месяца июля в 14-й день, в среду, загорелось в Москве, в середине града, ночью. И выгорел град весь, так что ни единого строения деревянного не осталось, но и церкви каменные распадались, и каменные городские стены упали во многих местах, и людей сгорело многое множество: священноиноков и священников, иноков и инокинь, мужей, жен и детей, ибо в городе был огонь, а выйти из города боялись из-за татар. Казны много сгорело и бесчисленное множество товару всякого, потому что торговых людей пришло тогда в Москву много, чтобы здесь в осаде скрыться от татар.
Из сгоревшего города великая княгиня Софья и великая княгиня Марья с детьми и боярами своими пошли ко граду Ростову. Горожане же были в великом смятении: кто мог, оставив град, бежали, а чернь, объединившись, начала прежде всего делать городские ворота. Желающих же бежать из града начали ловить, и бить, и в цепи заковывать. Так остановилось волнение, и все сообща начали город укреплять и строить снова дома.
Царь же Улу-Махмет с детьми своими и со всею своею Ордой пошел из Новгорода к Курмышу, уведя с собой и великого князя, и князя Михаила. Послал он посла своего Бигича к князю Дмитрию Шемяка. Тот был рад и воздал послу много чести, ибо желал быть великим князем. Отпустил он посла, а с ним послал своего человека, дьяка Феодора Дубенского, чтобы тот уговорил царя татарского Улу-Махмета не отпускать Василия Васильевича на великое княжение. Но тут Господь Бог, всемогущий и милостивый и благий человеколюбец, увидев такое немилосердие и зломыслие на своего брата и господина, преложил на кротость сердца безбожных и беззаконных христианогубителей-агарян, а посол от Шемяки был убит, еще не дошедши до татар.
В лето 6954 (1446) царь Улу-Махмет и сын его Мамутяк пожаловали великого князя: снова утвердили его на великом княжении, и с крестным целованием обещал он выкуп за себя дать, сколько может. Отпустили его с Курмыша на Покров Пресвятой Богородицы, 1 октября, и князя Михаила с ним, и прочих, сколько с ним было. А еще послали с великим князем множество своих людей: князя Сеит-Асана, и Утеша, и Кураиша, и Дылхозю, и Айдара, и иных.
Отойдя на два дня пути от Курмыша, послал великий князь в Москву, к матери своей, великой княгине Софье, и к жене его, великой княгине Марье и детям своим Андрея Плещеева с известием, что царь ордынский снова его пожаловал, отпустил на великое княжение, на свою отчину.
Пойман был татарин Бигич, направлявшийся от Дмитрия Шемяки, и закован в оковы. Услышав о том, князь Дмитрий Шемяка бежал в Углич.
А великий князь пришел в Муром, побыл там недолго и пошел ко Владимиру, и была радость великая всем градам русским. Когда же прибыл он в Переяславль, там были и мать его, великая княгиня Софья, и жена его великая княгиня Марья, и сыновья его князь Иван и князь Юрий, и все князья его, и бояре, и дети боярские и много людей от всех городов.
Взял с него ордынский царь, как пишет Новгородская летопись, выкуп двести тысяч рублей, а сверх того — Бог ведает да они.
И еще пишут летописи, что 1 октября, в тот день, когда был отпущен великий князь из Курмыша, в шесть часов утра трясло град Москву, и Кремль, и посад весь, даже храмы поколебались. Некоторые люди, крепко спавшие, не слышали это; а многие же, не спавшие и слышавшие все, пребывали в большой скорби и боялись уж жизни лишиться. Наутро со слезами рассказывали они несведущим о сем великом землетрясении.
Великий же князь пришел на Москву месяца ноября в 17-й день и стал на дворе матери своей за городом, на Ваганькове. Потом оттуда вошел во град, на двор князя Юрия Патрикеевича.
Князю же Дмитрию Шемяке вложил дьявол в голову мысль хотеть великого княжения. Послал он к князю Ивану Можайскому посла со словами, что татарский царь отпустил великого князя, потому что великий князь целовал крест царю в том, чтобы сам царь сидел на Москве и на всех градах русских, и на наших отчинах, а сам князь Василий Васильевич хочет сесть в Твери.
И так по наущению дьявола посылал он гонцов своих ко многим князьям, задумавши сие со своими злыми советниками, не хотевшими добра своему государю и всему христианству. С теми же речами послали и к князю Борису Тверскому. Тот, услышав недобрую весть, убоялся и примкнул к заговорщикам, ибо не хотел потерять свою отчину Тверь. Вкупе с Дмитрием Шемякой были и многие бояре и гости в Москве, были и от чернецов в том заговоре с ними.
Начал князь Дмитрий Шемяка со своими советниками тайно вооружаться и искать удобного случая, чтобы изгнать великого князя. Такой случай вскоре представился.
Захотел великий князь пойти поклониться Живоначальной Троице и мощам чудотворца Сергия. Вот и пошел он со своими благородными чадами, с князем Иваном и князем Юрием, и с небольшим числом людей своих, не думая ни о чем ином, кроме как накормить братию той великой лавры и воздать хвалу Богу в обители преподобного Сергия за свое освобождение из татарского плена.
Изменники же, бывшие в Москве, каждый день посылали князю Дмитрию Шемяке и Ивану Можайскому вести из града. Они же, соединившись, стояли на Рузе, изготовившись, как собаки на лов или как дикие звери, хотящие насытиться кровью человеческой.
Пришла к ним весть, что великий князь отошел из града, и в тот же час они изгоном пошли к Москве и пришли туда февраля месяца в 12-й день, в субботу, в 9-м часу ночи и взяли град. И не было в нем никого, противящегося им, и никого, ведающего о нападении. Были только единомышленники Шемяки, которые и отворили град.
Нечестивые, вошедшие во град, взяли в полон великую княгиню Софью и великую княгиню Марию, разграбили казну великого князя и матери его, а бояр, бывших тут, тоже хватали и грабили, как и многих других горожан.
В ту же ночь послал князь Дмитрий князя Ивана Можайского изгоном в Троицу со многими людьми своими, чтобы захватить там великого князя. И вот в самую литургию, в воскресенье, примчался к великому князю человек, которого звали Бунком. Поведал он Василию Васильевичу, что идет на него с войском князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский с ратью. Но не было ему веры, ибо тот Бунко незадолго до этого отъехал к князю Дмитрию Шемяке. Великий князь сказал ему: «Что ты смущаешь нас? Я со своим братом Дмитрием в крестном целовании, разве может быть, чтобы шли они сюда по мою душу?»
Повелел он того Бунка из монастыря выгнать и воротить его назад, и как бывшего изменника начали вооруженные сторожи его бить. А князь великий, хоть и не имел к Бунку веры, все-таки послал сторожей к Радонежу. Придя туда, стали они на горе, над Радонежем, стеречь дорогу. Но ратные люди Шемяки и Ивана Можайского узнали их издалека, а великокняжеские сторожи тех не усмотрели, ибо не имели веры вестям о нападении Шемяки.
Люди Шемякины сказали князю Ивану, что стоят сторожи Василиева на горе над Радонежем. Пошел Иван Можайский на хитрость: велел снарядить много возов с рогожами и полостями, и в каждом из них скрывались по два вооруженных человека в доспехах. Третий же шел позади, как бы за возом. И как передние миновали уже сторожей, так выскочили из саней воины и побили караул. А бежать людям великого князя было некуда, поскольку снег тогда был очень большой, в девять пядей.
Вскоре люди Шемяки помчались к монастырю. Скакали они на конях с горы к селу Клементьевскому, как на лов сладкий. Увидел их великий князь, побежал на конюшенный двор, да не было ему там коня приготовлено, так как сам в ложь брата своего не поверил. Надеясь на крестное целование, не приказал он себе ничего готовить к уходу. Люди все в унынии великом были и будто в оторопи. Так они удивились, что застыли в изумлении. Увидел великий князь, что нет ему ниоткуда помощи, и пошел быстро в каменную церковь Святой Троицы, что была на монастырском дворе.
Пономарь же, именем Никифор, инок, пришел и открыл церковь. Князь великий вошел туда, а монах, закрыв его, отошел и спрятался.
Убийцы, как свирепые волки, ворвались в монастырь на конях, и прежде всех Никита Константинович. Он прямо на коне на лестницу к передним дверям церковным взобрался, но тут упал с коня и ударился о камень, который перед церковными дверьми был вделан на помосте. Прибежав, прочие люди Шемяки подняли его. Он же, едва отдышавшись, был как пьян, и лицо у него было, как у мертвеца.
Тут уж и сам князь Иван Можайский въехал в монастырь, и все воинство его. Начал спрашивать князь Иван, где великий князь. Князь же великий, услышав в церкви голос князя Ивана, закричал сильно, говоря: «Брат, помилуй мя! Не лишай возможности зреть образ Божий и Пречистой Его Матери и всех святых Его. Не уйду я из монастыря сего и постригусь в монахи здесь!»
Пошел он к дверям южным, отпер их сам и, взяв икону, что была на гробе святого Сергия — Явление Пресвятой Богородицы с двумя апостолами святому Сергию,— встретил князя Ивана в дверях церкви, говоря: «Брат, целовали мы животворящий крест и сию икону в этой церкви Живоначальной Троицы, у гроба чудотворца Сергия, чтобы не мыслить нам, не хотеть никому из братии между собой никакого лиха. И вот теперь не ведаю, что будет со мною». Князь же Иван ответил ему: «Господин государь, если мы восхотим тебе какого лиха, пусть будет над нами лихо; но се творим для христиан и твоего откупа: видевши сие, татары, пришедшие с тобою, облегчат выкуп, который ты должен отдать царю».
Князь же Василий, поставив икону на место, пал ниц у гроба чудотворца Сергия, слезами обливая себя, и вздыхая, и захлебываясь от крика, что дивились всему бывшему тут люди и слезы испускали. А князь Иван, чуть поклонившись святым иконам в церкви, вышел и сказал Никите: «Возьми его».
Великий князь, помолившись, встал и, оглядевшись, спросил: «Где брат мой князь Иван?» Злой раб, немилосердный мучитель Никита взял великого князя за плечо и произнес: «Пойман ты великим князем Дмитрием Юрьевичем».
Великий князь в ответ кротко сказал: «Воля Божья да будет».
Вывел его злодей из церкви и увел из монастыря. Посадил в голые сани, а напротив — чернеца, и так поехали они к Москве. Бояр же великого князя всех поймали и, ограбив, нагих отпустили. А сыновья великого князя, князь Иван и князь Юрий, схоронились в том же монастыре. Кровопийцы, словно уловивши некий сладкий улов, о сыновьях не вспоминали и не спрашивали о них.
В эту же ночь князь Иван и князь Юрий с оставшимися у них людьми побежали к князю Ивану Ряполовскому в Юрьев, в село его Боярово. Князь же Иван Ряполовский с братьями Симеоном и Дмитрием и со всеми людьми отвез великокняжеских детей в Муром и там затворился.
Великого князя Василия Васильевича в понедельник, в ночь 14 февраля, привезли в Москву и посадили на дворе на Шемякиной; сам же князь Дмитрий Шемяка стоял на дворе на Поповкине. В среду на той же неделе на ночь ослепили великого князя и отослали в Углич с его княгинею. А мать его, великую княгиню Софью, послали в Чухлому. Услышав это, князь Василий Ярославич Боровский, шурин Василия Васильевича, ставшего теперь именоваться «Темным», побежал в Литву, а с ним князь Семен Иванович Оболенский. Прочие же дети боярские и все люди били челом Дмитрию и стали ему служить. Он же их всех привел к крестному целованию.
Один Федор Басенок не хотел служить Дмитрию Шемяке. Злодей возложил на него железа тяжкие и приставил к нему сторожей. Федор подговорил пристава своего и убежал из желез; пошел к Коломне и там скрывался у своих приятелей. Многих людей уговорил он присоединиться к нему и, пограбив уезды Коломенские, бежал в Литву.
Пришел он в Брянск (Дебренеск) к князю Василию Ярославичу. Этот город дал король Казимир князю Василию в вотчину, да Гомель, да Стародуб, да Мстиславль и многие иные места. А князь Василий Ярославич дал Брянск князю Семену Оболенскому да Федору Басенку.
Услышал князь Дмитрий Шемяка в Москве, что дети великого князя, придя, сели в Муроме со многими людьми. Но не захотел он посылать на них войско — боялся, ибо все люди негодовали от того, что он занял великокняжеский престол. Мыслили и о заговоре против него потому, что хотели великого князя Василия видеть на своем государстве.
Тогда князь Дмитрий призвал к себе на Москву епископа рязанского Иону, а когда тот пришел, пообещал ему митрополию и начал уговаривать: «Отче, иди в свою епископию, в град Муром, и возьми детей великого князя на свою епитрахиль. Я буду рад их жаловать. Отца их, великого князя, выпущу и вотчину дам хорошую, чтобы было у них все, что надобно».
Согласившись, владыка Иона пошел к Мурому на судах. Пришел он в Муром и начал говорить те же речи боярам детей великого князя, трем князьям Ряполовским и другим, бывшим тут. Бояре, много о том думая, сказали сами себе: «Если мы святителя не послушаем, не пойдем к князю Дмитрию с детьми великого князя, то придет он сам с ратью, город возьмет и, детей великого князя поймав, сотворит им, что захочет, а также и отцу их, великому князю, и всем нам. И во что превратится крепость наша, если не послушаем мы слов святительских?»
Тогда сказали бояре владыке Иону: «Хоть и пришел ты к нам со словами добрыми от князя Дмитрия к нашим государям, детям великого князя, да и к нам, но не дерзнем отпустить с тобой детей великого князя без клятвы («без крепости»). Пойдем в соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и с пелены, на которой будут стоять дети, возьми их на свою епитрахиль. Тогда отпустим их с тобою и сами с ними пойдем».
Владыка обещал все так и сделать. Войдя в церковь, начал он молиться Пресвятой Богородице и, совершив молебен, взял детей с пелены у Пречистой на свою епитрахиль. Иона пошел с ними к князю Дмитрию в Переяславль Рязанский, где тот был, и пришел туда месяца мая в шестой день.
Князь же Дмитрий немного почтил детей великого князя, с лестью на обед их к себе звал и одарил их, а на третий день с тем же владыкой Ионою послал к отцу в Углич в заточение.
Епископ Иона отправился с детьми к великому князю, оставил их там и возвратился к князю Дмитрию. Тот же повелел Ионе идти в Москву и сесть на дворе митрополичьем. Иона так и сделал.
А князья Ряполовские, Иван и братья его Симеон и Дмитрий, увидев, что Шемяка слово свое изменил и во всем солгал владыке, начали мыслить, как бы князя великого из заточения вызволить. С ними заодно были тогда и князь Иван Васильевич Стрига, да Иван Ощера с братом Бобром, да Юшко Драница и многие другие дети боярские двора великого князя. И еще был с ними Семен Филимонов со всеми детьми, да Русалка, да Руно и другие дети боярские.
Назначили они срок: всем быть под Угличем на Петров день в полдень. Семен Филимонов со всеми своими пришел в срок, а про Ряполовских стало известно князю Дмитрию Шемяке, так что не осмелились идти они к тому сроку под Углич, а пошли за Волгу к Белуозеру. Князь Дмитрий послал за ними из Углича рать с Василием Вепревым, да Федора Михайловича послал за ними со многими отрядами. Срок им был сойтись вместе на устье Шексны в день Всех Святых. Федор не успел к Василию, а Ряполовские, повернув полки на Василия Вепрева, побили его на устье реки Мологи.
Федор в ту пору перешел Волгу и пошел к устью Шексны со всеми полками своими. Ряполовские узнали про то и на него поворотилися. Федор же, увидев их, опять побежал за Волгу. А Ряполовские пошли по Новгородской земле к Литве и пришли ко князю Василию Ярославичу во Мстиславль. Семен Филимонов со всеми своими от Углича пошел к Москве, ничего не зная о своих соратниках, князьях Ряполовских. Один Руно повернул от него вслед за Ряполовскими.
Пришли князья Ряполовские, да князь Иван Стрига и прочие дети боярские, о которых ранее говорилось, к князю Василию Ярославичу и начали совет держать, как бы вызволить великого князя.
А князь Дмитрий Шемяка, видя, что многие люди отступаются от него, послал гонцов ко всем владыкам-епископам и созвал совет. Начал он с князем Иваном, епископами и боярами думать, не выпустить ли ему великого князя. А владыка Иона, не переставая, каждый день говорил ему: «Учинил ты неправду, меня во грех ввел и в срам; обещал великого князя выпустить, а сам и детей его с ним посадил. Дал ты мне свое правое слово, они меня послушали, а нынче я во лжи пребываю. Выпусти его, сними грех с моей души и со своей. Что он может учинить без глаз? А детки его еще малы. Да укрепи его, заставь его поклясться на честном кресте в присутствии нашей братии, владык, что не будет умышлять против тебя». Много другого говорил он еще. Князь же Дмитрий, подумав о том, решил выпустить великого князя и дать ему вотчину, чтобы было ему чем жить.
А у великого князя в то лето родился на Угличе сын Андрей, месяца августа в 13-й день.
Пришел князь Дмитрий Шемяка в Углич, чтобы выпустить великого князя и детей его из заточения. Пошли с ним и все епископы, и честные архимандриты, и игумены. Придя в Углич, выпустил он великого князя и его детей, каясь и прося прощения. А князь великий перед ним смирился и, сам на себя вину возлагая, говорил: «Как же мне было не пострадать грехов моих ради и беззаконий многих и преступлений в крестном целовании перед вами, пред всею старейшею братией и пред всеми православными христианами. Многих я погубил и еще погубить хотел до конца. Достоин я был смертной казни, но ты, государь мой, оказал мне милосердие, не погубил меня с беззакониями моими, и вот каюсь я во многих злах моих...» Говорил это и многое другое, чему числа нет... Все бывшие тут дивились такому смирению и взирали на него с умилением, а когда говорил, слезы текли из очей многих, как быстрые реки.
Потом князь Дмитрий в честь великого князя, великой княгини и детей их велел сотворить пир великий. И были там все епископы земли русской, и бояре многие, и дети бояр. Честь великую учинил Дмитрий Шемяка великому князю, и дары многие подавал и самому Василию, и княгине, и детям их, и дал в вотчину великому князю город Вологду со всеми селами и деревнями и отпустил туда великого князя со княгинею и с детьми.
Князь же великий, придя в Вологду, пробыл там недолго и пошел со всеми своими в Кириллов монастырь, чтобы бывшую там братию накормить и милостыню дать.
Услышав то, бояре князя великого, и дети боярские, и люди многие побежали от князя Дмитрия и от князя Ивана к великому князю Василию Васильевичу, ибо нельзя таковому государю в таковой дальней пустыни заточенным быти.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
БЕРУ ГРЕХ НА СЕБЯ
Осень стояла радостная, красная.
Уже давно заполыхал густой осинник, багровые кисти рябин сплошь унизывали оголяющиеся ветки: не иначе как быть зиме долгой и холодной. Босоногие еще девчонки из подмонастырской слободы ходили, увешанные бусами из самых крупных наливных ягод, а на Цыпиной горе уже выскочили из своих гнезд орехи. Белки шныряли в траве, отыскивая их: готовили запасы на зиму.
Еще вчера быстрый инок из Кириллова монастыря принес в Ферапонтову обитель весть о том, что великий князь Василий Васильевич пожаловал на богомолье ко фобу преподобного старца Кирилла, отдавшего Богу душу почти двадцать лет назад. Пожаловал с малой свитой, в глубоком смирении и унынии, ибо был он великим князем всего полгода назад, а теперь стал слепцом беспомощным, веткой надломленной, рыбой, выброшенной на берег. И жив еще, и двигаться может, а света белого не видит, на святые иконы помолиться не может, вход в храм сам не найдет. Все с поводырем — преданным боярином да со слугами, с женой верной и детьми покорными, сыновьями малыми.
Жестоко отплатил великому князю его двоюродный брат Дмитрий Шемяка. Был тот удельным Галицким князем, а стал великим. Сел на Москве на великокняжеский стол, сел обманом, нарушив крестное целование. Сел хитростью лисьей, змеиным коварством, волчьей хваткой. Да что говорить... Все одно — сидит великий князь Дмитрий Юрьевич в стольном граде, и принимай его таким, каков есть. И ослушаться не моги — власть у него да сила. А слепца бедного, лишившегося очей по воле злодея-брата, теперь можно только утешить словом Божиим, благословить на страдальческую жизнь, пожелать покорности перед тяжелыми испытаниями, посланными Богом.
Следом за первой пришла и вторая весть: пожелал великий князь Василий Васильевич от Кириллова монастыря отъехать к Ферапонтовой обители, благо расстояние невелико — всего пятнадцать верст, а игумен ферапонтовский Мартиниан уже давно известен в Вологодском крае своим благочестием и праведной жизнью. Не случайно был он любимым учеником и келейником преподобного Кирилла. Через этого блаженного старца, которого еще в Москве, в Симоновом монастыре, отличал преподобный Сергий Радонежский, и на Мартиниана перешла малая толика благодати великого троицкого чудотворца.
Услышав нежданную весть, смутился духом отец Мартиниан. Смутился и возрадовался: не каждый день доводится встречать столь великого гостя. Да по совести говоря, еще ни разу с того времени, как преподобный Ферапонт основал обитель, не посещали ее такие именитые люди. Не доезжали в далекий северный монастырь великие князья, хотя бы и бывшие. Ни разу не входили в монастырские ворота правители Русской земли, ни разу не стояли у стен великокняжеские стяги.
В честь такого события игумен Мартиниан отменил для иноков все обычные осенние послушания: ни в лес за грибами и орехами, ни на рыбную ловлю, ни клюкву и бруснику собирать. Велел еще раз зорким глазом оглядеть монастырский двор и кельи, трапезную и главное — храм. Убрать все лишнее, дрова аккуратно сложить в поленницы, опилки и щепы вымести. Утварь церковную и столовую начистить, чтобы сияла, а трапезу готовить по-праздничному, благо день не постный.
Уже прошел утренний холод, уже земля прогрелась от грустного солнца, когда над дорогой, ведущей из Кириллова, поднялось легкое облако. Темные всадники на темных лошадях ехали небыстро, и лишь когда эта невеселая группа приблизилась. к обители, стало видно, что великий князь сидел на кауром молодом жеребце, обученном высоко и гордо поднимать стройные ноги, а ехавшие по бокам и чуть впереди него двое бояр как бы направляли лошадь с седоком, ведя ее за длинные поводья, не давая свернуть ни влево, ни вправо.
Игумен Мартиниан с иноками, свободными от работы в поварне, вышли из монастырских ворот и замерли на холме, дожидаясь приближения медленной процессии.
Великий князь с боярами и малой дружиной остановился внизу, почти у кромки озера, сам слез с коня и, держась за плечо невысокого, но крепкого слуги, пошел в гору, к монастырским воротам. Глаза его были закрыты черной повязкой, расшитой серебряными крестами. Рядом с Василием шел верный боярин, иногда что-то тихо говоривший князю на ухо.
Не доходя до группы иноков, Василий опустился на колени. Игумен осенил слепого князя святым крестом, а Василий протянул руки, неуверенно шаря в воздухе. Нашел быстро скользнувшую ему навстречу сухую кисть Мартиниана и прикоснулся к ней губами.
— Прими душу мою на покаяние, святый отче,— тихо молвил великий князь.
— С миром и покоем вступи в обитель нашу,— так же тихо ответил настоятель.
Положив руку на плечо малорослого боярского сына, Василий медленно и даже как-то величаво поднял голову со слепыми очами к небу и перекрестился на покрытые осиновым лемехом купола храма Рождества Пресвятой Богородицы. Медленно и чинно развернувшись, черная толпа монахов двинулась через монастырские ворота. Князь, по-прежнему держась левой рукой за крепкое плечо слуги, тоже тронулся с места, уже на ходу, истово и широко осеняя себя крестные знамением. За ним потянулись ближние бояре, а потом уж и вся княжеская свита вошла в обитель. Ворота монастыря, основанного блаженным Ферапонтом более полувека назад, медленно затворились.
Игумен Мартиниан повел бывшего великого князя в свою келью. Здесь было чисто и прохладно, перед иконами горели лампады, пахло воском и маслом.
— Отдохни с дороги, княже.
— Отдохну,— покорно согласился Василий, от дверей крестясь на тот угол кельи, где были иконы. Он махнул рукой ближним, и те покорно остались за дверью, не переступив порога жилища блаженного игумена.
Князь сел на желтую, скобленую лавку. Помолчав, сказал:
— Милостыню привез я братии, отче... Да небогата она нынче. Прости, что раньше не вспомнил об обители твоей.
— Господь простит,— ответил игумен, поправляя пегую уже бороду, задевающую цепь, на которой висел крест-мощевик.— Спасибо, что вспомнил о нас, грешных, в горести своей и пришел помолиться с нами.
— Душа тоскует, Божьего слова просит,— вдруг быстро заговорил Василий, почти беспрестанно крестясь,— Грехи тяжкие грузом безмерным лежат на плечах моих, и никак не освободиться, не скинуть их, чтобы полегчало хоть немного...
— Ты ведь из Кирилловой обители к нам? — спросил Мартиниан.
— Оттуда,— ответил князь.— Как получил от Шемяки во владение Вологду, как приехал в город, который никогда не видел и уж не увижу, лихо мне стало. Так лихо, что не усидел я там, двинулся в славную Кириллову обитель, чтобы помолиться и покаянием облегчить страдания мои...
— С игуменом Трифоном виделся? Говорил с ним?
— И виделся, и говорил... И молился с тамошней братией, и милостыню им привез... Да вот мало показалось душе, решил и твою славную обитель навестить...
— Моления и покаяния никогда не бывает много,— ответил Мартиниан.— Видно, душа твоя не полностью очистилась от грехов. Тяжелы они, словно вериги. Ропщешь ты, княже, на волю Божию, не можешь примириться с победой врага своего, не можешь простить злодейство его.
— Нет, отче, простил и не ропщу,— заговорил князь, но по горячности, по голосу чувствовалось, что обида крепко засела в душе.
— Ропщешь,— тихо, но твердо сказал игумен.— Долю свою тяжкую в душе проклинаешь. Господа нашего великий промысл не принимаешь. А ты прими, прими его...
Игумен сел рядом с князем, взял его руку в свою, приложил к груди.
— Ты, княже, высоко сидел на земле. Думал, наверное: вот как Бог выделяет меня среди всех людей, вот как Он любит меня, как простирает надо мной и моим великим княжеством длань свою. А ты вот о чем подумай: ведь неисповедимы пути Господни. Раз послал Он тебе такое испытание — значит, на то Его высшая воля. И ты прими это наказание как благодать. Благодари Господа за то, что сподобил тебя страдать в этой жизни, ибо через страдание многое понял ты, многое постиг. Господь никого просто так не наказывает, без воли Его и волос с головы человека не упадет. Значит, надо Ему, чтобы страдал ты... Может, крепость веры твоей, покорность твою воле Его проверить хочет...
— Правду, правду говоришь ты, отче,— горячо откликнулся Василий.— Не вижу я тебя и никогда не увижу, а душу твою чувствую и правду слов твоих ощущаю, и благословение твое получить хочу, ибо дух святой обитает в келий сей.
— Горяч ты, княже, а духом некрепок,— вздохнул игумен.— В уныние впадаешь быстро, скорбишь много, а молишься мало. Да и во время молитвы мысли улетают к земному от небесного, так что истинной веры в них мало, искренности мало...
— А ты на очи мои посмотри! — вскрикнул Василий, срывая повязку.— Было ли такое на Руси? Со мной, с великим князем, брат мой меньший князь Дмитрий такое сделал...
Глазницы Василия были пусты. Глаза еще не совсем зажили, красные рубцы виднелись на воспаленных веках, из них текло, и глубокие борозды у крыльев носа были мокрые.
— Воочию вижу грех святотатца Шемяки,— сказал игумен,— А на Руси всякое было. Вот переписывали иноки недавно летопись нашу начальную, под названием «Откуда есть пошла Русская земля». С давних времен ведется она, а то, что хочу рассказать тебе, было в 6605 году от сотворения мира. Сидел тогда в Киеве князь Святополк, да недружно жили князья. Собрались они однажды на совет для установления мира и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да объединимся отныне единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей...» На том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся земля Русская». Разошлись они, и рады были все люди, только дьявол был огорчен их согласием. Влез сатана в сердце некоторым мужам, и стали они говорить Святополку против одного — Василька Ростислави-ча. Особенно старался Давыд, который внушал Святополку: «Если не схватим Василька, то ни тебе не княжить в Киеве, ни мне во Владимире». И послушался его Святополк. А тут как раз Василько оказался недалеко от Киева. Стал Святополк посылать людей к Васильку — приглашать на именины свои. Василько же отказался: «Не могу медлить, как бы не случилось дома войны». А коварный Давыд сказал Святополку: «Видишь — не помнит о тебе даже здесь, под твоей рукой. Когда же уйдет в свою волость, сам увидишь, что займет города твои. Тогда помянешь меня. Лучше призови его теперь, схвати и отдай мне». Послушался Святополк, послал снова за Васильком, говоря: «Если не хочешь остаться до именин моих, тогда приходи сейчас, посидим все вместе». Василько обещал. Сел на коня, поехал. Встретил его отрок и предупредил: «Не езди, княже, хотят тебя схватить». Да Василько не поверил: только ведь целовали крест. Подумав так, перекрестился и сказал: «Воля Господня да будет». И приехал с малой дружиной на княжий двор. Обманули князья Василька: схватили, оковали двойными оковами, приставили стражу. А Давыд начал подговаривать на ослепление: «Если не сделаешь этого, а отпустишь его, то ни тебе не княжить, ни мне». И в ту же ночь повезли Василька в Белгород, небольшой город около Киева. Привезли в телеге закованным, высадили и повели в избу малую. Сидя там, увидел Василько слугу, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить, и возопил к Богу с плачем великим и со стенаниями. Пришли Святополк с Давыдом и люди их, начали расстилать ковер. Разостлав, схватили Василька, и хотели повалить, и боролись с ним крепко, и не смогли его повалить. Тут вошли другие, повалили, связали и, сняв доску с печи, положили на грудь ему. Сели по обе стороны двое и не могли удержать Василька. Подошли двое других, сняли другую доску с печи, сели и придавили так сильно, что грудь затрещала. И приступил овчарь Святополков; подняв нож, намеревался ударить в глаз, но промахнулся и порезал лицо, и видна была та рана на лице у Василька всегда. Затем ударил его в глаз и исторг глаз, и потом — в другой глаз и вынул другой глаз. И был Василько в то время как мертвый. Взяв его на ковре, взвалили на телегу, как мертвого, повезли во Владимир. В одном месте остановились, стащили с него рубашку, всю окровавленную, и дали попадье постирать. Попадья же, постирав, надела на него, когда те обедали; и стала оплакивать его попадья, как мертвого. Услышал он плач и спросил, где находится. Ему ответили. Потом попросил воды. Испил, и вернулась к нему душа его. Опомнился, пощупал рубашку и сказал: «Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той рубашке кровавой смерть принял и предстал перед Богом...»
Великий князь слушал рассказ игумена, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону.
При последних словах возопил он:
— Узнаю, узнаю себя в том далеком предке моем... И страдания свои узнаю, и несправедливость ту великую на себе ощущаю!
— А сам-то ты чист душой? — тихо, почти шепотом спросил Мартиниан.
— Грешен, грешен, батюшка, отец мой! Грешен перед Господом нашим и перед людьми, грешен в том же великом грехе, ибо сам, дважды совершал такое же черное дело! За это и наказал меня справедливый Бог наш, чтобы почувствовал сам я терзания тех!
— Дела мирские полны злобы великой,— проговорил отец Мартиниан,— Не все нам, чернецам, ведомо. Многого не знаем мы за своими высокими заборами, за молитвами и постом.
— Расскажу, расскажу тебе, отче, как все было. Все грехи мои поведаю, ибо чувствую я в тебе душу безгрешную, к Господу приближенную. Рассуди меня с самим собой, святый отче. Как перед Господом, который все видит, исповедаюсь тебе, все грехи свои вспомню, да только хватит ли у тебя терпения слушать?
— Не беспокойся, княже,— ласково сказал игумен,— уж терпения-то мне точно хватит. В нашей монастырской жизни без терпения и смирения невозможно...
— Ну так слушай меня, чернец. Слушай про жизнь мою княжескую, беспокойную. Слушай про распри междоусобные, слушай про кровь пролитую, про коварство и ненависть...
И начал Василий Васильевич рассказывать.
— Уж более 20 лет тянется наша вражда с братом отца моего и его семьей. Как скончался батюшка мой, великий князь Василий Дмитриевич, как закрыл он очи после тридцати шести лет великого княжения, положили его в Архангельском соборе, возле гроба деда моего, князя Дмитрия Донского. Вступил я на престол по завещанию отчему, а не по заветам старого времени, и было мне всего десять лет. Дядя мой, князь Юрий Дмитриевич, находился тогда в своем Звенигородском уделе, и послали к нему гонцов — требовать присяги и покорности. Однако не соглашался князь Юрий, уехал подальше от Москвы, в Галич, но послали людей и туда — уговаривать его. Князь Юрий уж из Галича прислал ко мне послов и заключил со мной перемирие, но крест целовать и присягать на верность мне, своему малолетнему племяннику, отказался. Открыто заявил, что будет добиваться великого княжения, потому что по древним обычаям оно должно переходить не от отца к сыну, а по старшинству. В том же году войска мои и трех дядей моих — князей Андрея, Петра и Константина Дмитриевичей двинулись к Галичу, но Юрий перебрался в Нижний Новгород. Пошли на Нижний — Юрий снова подался в Галич. Решили послать туда митрополита Фотия. Фотий-митрополит не отрекался, с радостью пошел в Галич в то же лето. Князь Юрий Дмитриевич услышал о прибытии митрополита, собрал всю отчину свою и встретил с детьми своими, с боярами и лучшими людьми. Еще собрал чернь из градов своих, и из сел, и из деревень, и поставил многое множество по горе от града. Встретил митрополита с честью, являл ему многих людей своих. Митрополит же пошел к соборной церкви Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, помолился, потом пошел к келье своей, где ему надлежало стояти, и начал глаголати князю Юрью Дмитриевичу о мире, чтобы не было кровопролития между ним и великим князем. Князь Юрий просил перемирия на время, а мира не хотел и не внимал словам митрополита. Разгневался Фотий-митрополит и, не благословив князя и град его, ушел оттуда. И в тот час начался мор великий — Господь поразил Галич за упрямство князя. Устрашился князь Юрий, сел на коня, бросился вслед за святителем, догнал его уже на дороге в Москву, начал бити ему челом, скорбеть о своем согрешении и умолял помириться. Так умолен был Фотий митрополит, возвратился и благословил и князя, и град его, и от того часа сошел гнев Божий и перестал быти мор великий. Князь Юрий многую честь воздал святителю и отпустил его, проводив со всем народом. По отшествии из града Галича князь Юрий послал бояр своих Бориса Галичского и Данила Чешка в Москву, ко мне на поклон. Договорились мы, что князь Юрий не будет добиваться великого княжения сам, а поедем мы к царю, ордынскому хану, и кого тот пожалует своей ханской грамотой, тот и будет великим князем Владимирским, и Новагорода Великого, и всея Руси. Мор тот пришел и в Тверь, и в Москву. Умерли один за другим три князя Тверских. И в Москве умер дядя мой князь Петр и сыновья Владимира Андреевича Серпуховского, который вместе с дедом моим Дмитрием Донским сражался на Куликовом поле и был назван Храбрым. Гибли люди тысячами, а после беды той как после Ноева Потопа, народу на землях наших поубавилось, а кто выжил — стали худыми да слабыми, так что воевать совсем не годились.
Василий Васильевич замолчал, отдыхая от столь долгой речи, а игумен Мартиниан вспомнил свое.
— Помню, помню тот великий мор. Не посетил он наши северные края, но люди разные приходили, рассказывали, плакали. Тогда же, в лето 6935 от сотворения мира, месяца июня в девятый день преставился игумен и отец наш Кирилл и положен был в своем монастыре у Сиверского озера. Провожая ко гробу святые и честные мощи его, был я преисполнен грусти о добром отце и учителе, но стал с еще большим рвением служить в монастыре. Призывая и поминая в молитвах святого отца, хранил я в сердце своем его праведную жизнь...
— Ты хорошо знал преподобного Кирилла, отче? — внезапно спросил великий князь, следуя каким-то своим мыслям.
— Хорошо,— просто ответил игумен.— Меня батюшка мой, царствие ему небесное, еще несмышленышем привел в его обитель.
— Слышал я, благоволил тебе игумен Кирилл?
— Святой старец, по доброте своей, пригрел меня, грешного, и до самой кончины своей опекал. Учиться меня отдал дьяку монастырскому, Алексею Павлову. Большой учености был человек, да будет ему рай в царствии небесном. Хорошо обучал детей грамоте и переписке книг, и от него быстро перенял я книжную премудрость. А когда возвратился в монастырь, сам авва Кирилл постриг меня в иноческий чин и взял к себе в келью, чтобы смотреть за моим становлением на трудном пути монашеском.
— Слышал я, поистине святым был тот игумен.
— Воистину. Наставлял меня словом и делом и выделял среди учеников своих не по заслугам моим, а только по величайшей доброте своей.
— Не пришлось мне приобщиться к святости его... Каков он был — не ведаю...
— Миленький такой, сухонький, как грибочек стареющий в лесу. Он ведь на Сиверское озеро пришел уже в шестьдесят лет, а преставился в девяносто. Тридцать лет обитель свою держал в строгости, устав нарушать не позволял никому. Не наказывал иноков, но увещевал их словом проникновенным и примером своим показывал нестойким истинную жизнь монашескую. Наверное, говорили тебе об иконе у раки святого? Ее здешний иконописец игумен Глушицкий Дионисий написал еще при жизни преподобного Кирилла. Я уж потом попросил одного из наших иноков образ сей мне для кельи изобразить. Постарался инок, списал один к одному, только размером сделал меньше, чтобы мог я образ отца и учителя моего всюду брать с собой. Молюсь я перед образом угодника Божьего и взываю к старцу великому, чтобы просил Господа об обителях наших и не забывал бы среди небесных кущей меня, грешного...
Василий встал с лавки, неверными шагами ступил вперед, попросил:
— Дай прикоснуться к святыне той... Мартиниан не стал снимать образ с полки, взял
руку великого князя и осторожно, чтобы не задеть огонек лампады, коснулся ею иконы, темно мерцавшей в отблесках колеблющегося пламени. С нее смотрел на игумена и великого князя маленький, сухонький старичок в монашеской мантии, в куколе, спущенном на плечи. Только глаза были живые, словно через них заглядывала в игуменскую келью душа так почитаемого здесь старца.
Василий стоял, держа руку на святой иконе; трепещущими пальцами водил по гладкой заолифленной поверхности, словно старался почувствовать ее тепло, ее населенность и невидимую благодать, идущую от образа святого.
— Денисей-старец писал икону, когда отче Кирилл заболел сильно. Думали — предстанет пред очами Божиими, вот и готовили образ ко гробу блаженного. А он поправился и еще три года прожил на радость инокам. Когда же по воле Господа преставился, тогда и поставили образ тот у гробницы...
Великий князь опустил руку, тяжело вздохнул:
— Сурово покарал меня Господь за грехи мои... И представить я раньше не мог, как тяжело это — не видеть Божьего света, не зрети ничего из его созданий...
— Суров Господь во гневе своем, но и милосерд,— коротко ответил Мартиниан.
Снова долго молчали, думая каждый о своем, и молились, тоже каждый о своем, и просили Господа, и Его Пречистую Матерь о милости, о заступлении, о прощении грехов.
Наконец великий князь прервал молчание.
— А почему ты, отче, не принял после преподобного Кирилла обитель в руки свои?
— Молод я еще был,— откликнулся Мартиниан,— не готов к игуменскому служению. Я тогда уже отдельно от аввы Кирилла жил, в своей келье. Он меня в дьяконы посвятил, служил я с ним в соборной монастырской церкви. Потом удостоен был звания иерейского... Да разные люди есть и среди монашества. Одни через смирение и послушание находят в иночестве душевный покой, а у других в душе тяжелый камень мирской зависти ворочается. Не могут они жить в тихой радости Божьего мира и покоя, все гложет их душу грех, порожденный сатаной. Вот и в обители Кирилловой так... Пока старец управлял и держал всех в строгости, оно вроде и незаметно было, а как преставился — поднялось на поверхность. Не захотел я быть причиной раздоров, не захотел вбирать в душу свою мирские грехи. Ушел подальше, на Вожь-озеро, чтобы жить в одиночестве и беседовать только с Богом... Да не получилось долго безмолвствовать... Собрались иноки, устроили малый монастырь.
— А здесь ты как оказался, отче?
— Пришел сюда помолиться. Игумен здешний преставился, и жили монахи без наставника. Тужили очень. Стала братия просить меня остаться у них...
— Ты и остался?
— Нет, тогда не остался. Только пообещал вернуться. Ушел снова в свою пустынь, готовился. А братия здешняя ждала меня. Был я на Вожь-озере семь лет, потом уж снова пришел сюда. Встретили меня, грешного, с радостью, обласкали и дружно согласились видеть меня игуменом. Отправились в Можайск, к князю Михаилу Андреевичу, чтобы согласие дал, ибо была это его вотчина. Тот писанием утвердил меня в игумены, одарил монастырь милостыней и отпустил нас.
— Когда ж то было, отче?
— Да уже более десяти лет назад. С тех пор игуменствую, направляю обитель по Божьему пути, блюду заповеди Кирилловы...
— Строго у вас в монастыре?
— Строго. Как у Кирилла. По его пути стараюсь вести всех. Как говорил евангелист Лука; «И от всякого, кому много дано, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут». Общежительский устав строго блюдем, и трапеза у нас общая, незавидная и благочинная. Ядение всем одинаковое, смиренное и молчаливое.
— А меня бы ты к себе в обитель взял?
— Живи, княже, ежели хочешь, но в иноки не постригу.
— Почто?
— У тебя другая дорога, государь. Тебе великий стол воевать, Шемяку беззаконного из Москвы гнать...
— Вот и настоятель Кирилловой обители то же говорит...
Мартиниану показалось, что вдруг как-то изменилось лицо князя, в темноте кельи будто сверкнули очи государя и тут же закрылись.
«Господи,— мысленно перекрестился игумен,— нет в нем ни хитрости, ни лукавства. Хорошо это или плохо — Бог весть. Хочет, хочет князь на свой великий стол, да клятву, данную супостату, нарушить боится. И слова одного игумена кажется ему мало».
— Разрешил тебя Трифон от клятвы Шемякиной, данной в Угличе? — прямо спросил Мартиниан.
— Разрешил,— ответил Василий и почему-то вздохнул.
— Что же ты маешься?
— Поддержки ищу,— не стал хитрить великий князь.— Клятву я давал искреннюю, все духовенство, высшее с митрополитом нареченным Ионою было при сем. Чтобы разрешить меня от нее, слов одного игумена неизвестного, хоть и преславной обители Кирилловой, может, и недостаточно. А ты, отче, от самого Кирилла славу перенял, а Кирилл — от преподобного Сергия, чудотворца Радонежского... Потому ищу я у тебя духовного совета и помощи. Возьмешь и ты на себя грех мой, будешь Господа молить за меня, великого князя, верю, что услышаны будут молитвы твои. Хоть и не вижу я тебя, а веру в тебя имею великую... Чувствую невидимые нити, что связывают душу твою с Царством Господним и с великими чудотворцами Сергием и Кириллом. А они молятся за нас, грешных, у престола Божьего.
Мартиниан сидел на краю лавки, прямой и напряженный. Глаза его, не отрываясь, смотрели на 32
лицо великого князя, на его ввалившиеся щеки, нервно подрагивающие больные веки, беспокойные тонкие бледные пальцы.
— А ведь много грехов за тобой, княже,— тихо сказал Мартиниан.— Не задавили бы они нас вместе с Трифоном.
Великий князь как-то вдруг сник, вздохнул глубоко.
— Прав ты, отче, во всем прав. Единственно, на что надеюсь,— это на великую милость Божию и на твои вкупе с игуменом Трифоном молитвы. Смирился было я, не хотел идти против брата князя Дмитрия, даже о монастыре подумывал, да бояре мои в один голос твердят: «Нельзя, нельзя самодержцу Русской Великой земли в такой дальней пустыне быть заточенному!» Да ведь бояре что... Они по чину своему должны служить и прославлять великого князя... А твое слово, отче, независимо... Оно от Бога, от Царицы Небесной, от великих чудотворцев... Твоего слова жажду...
— Подожди,— строго сказал Мартиниан.— Исповедь твоя только началась...
— Да, да,— снова оживился великий князь,— Все тебе расскажу, всю душу открою, ни одного уголка темного не оставлю, ни одного пятнышка..,
Василий Васильевич сложил руки на коленях, низко опустил голову и, помолчав немного, продолжил свой рассказ.
— Пять лет прошло, как вступил я, недостойный, на отцовский стол, пять лет жил за спиной матери моей Софьи, дочери великого князя литовского Ви-товта. Уж и Витовт умер, и митрополит Фотий преставился, когда поехали мы с дядькой моим князем Юрием Дмитриевичем в Орду, к великому царю Махмету... Страшно было... На праздник Успения Пречистой, по завершении литургии, повелел я именем своим лети молебен Пресвятой Богородице и великому чудотворцу Петру, и слезы проливал, и милостыню многу раздавал на все церкви града Москвы, и монастыри, и нищим всем. Отправился я в тот же день в Орду, пообедал на лугу против Симонова монастыря и пошел в путь свой. А в сентябре и князь Юрий из Звенигорода двинулся следом. Встретились мы с ним в Орде... Да вот беда: одни князья ордынские были за меня и выказывали мне великий почет и уважение, а другие стояли за Юрия Дмитриевича и обещали ему помогати. Был тогда со мной боярин Иван Всеволожский, начал он бити челом великим князьям ордынским за своего государя, уговаривал дать великое княжение мне, сыну Василия Дмитриевича, внуку Дмитрия Донского. Всю зиму пробыли мы в Орде. Царь велел своим князьям судити нас, князей русских, и многая распря была между нами. Говорили одни, что я, великий князь Василий Васильевич, ищу стола своего по отечеству и дедству своему, а князь Юрий Дмитриевич по летописцам и старым спискам. Сказал тогда боярин Иван Всеволожский, что я ищу великого княжения по цареву желанию, по слову и ярлыку царя ордынского, а князь Юрий — по мертвой грамоте. И что я по завещанию отца моего уже который год сижу на великом княжении, и раз царь ордынский молчал все время — значит, и по его желанию. И дань плачу исправно. Тогда царь Махмет дал великое княжение мне, князю Василию Второму, и повелел дяде моему Юрию Дмитриевичу вести коня подо мной. Не захотел я дядю своего, родственника ближнего, бесчестить, отказался от того умысла. А царь ордынский по слову князя своего Ширин-Тегини отдал Юрию во владение град Дмитров со всеми волость-ми. Отпустил нас царь, и пришли мы на Москву в Петров день, а с нами посол царев Мансыр-Улан царевич. Он посадил меня на великое княжение у Пречистыя у золотых врат, а князь Юрий Дмитриевич пошел в свою вотчину в Звенигород, а оттоле в Дмитров. Ушел он потом в Галич, а я, как великий князь, взял Дмитров себе...
Василий Васильевич замолчал, нервно вслушиваясь в тишину кельи, чутким ухом слепца стараясь уловить что-нибудь тревожащее в молчании игумена, да, видно, ничего не уловил и потому продолжал дальше, теребя беспокойными пальцами край рубахи:
— И все-таки князь-дядя два раза сидел на великом столе, два раза пришлось мне от него бегать, уступая Москву. Правда, во второй раз совсем уж недолго царствовал: шестьдесят лет ему было, а скончался он внезапно летом. Старший сын Юриев, Василий Косой, тут же решил назвать себя государем Московским. Но братья его, Дмитрий Шемяка да Дмитрий Красный, сказали: «Ежели Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то мы не хотим видеть на оном и тебя...» Помирились они со мной, а Косого выгнали из стольного града.
— Сколько же раз вы мирились с Шемякой и снова ссорились...— не спрашивая, а как бы удивляясь, вздохнул Мартиниан.
— Много, отче, много,— с печалью воскликнул Василий.— Если все считать да по летам вспоминать, нам с тобой и рук-ног не хватит... Нет покоя мне, нет мира на моей земле. Вот уже более двадцати лет прошло, как сел я на отцовский престол, а всё беды да напасти, всё войны и разорения, всё плачи да стоны... Не сумел я княжество в руках удержать, с братаничами двоюродными справиться не смог. Как ушел от меня боярин Иван Дмитриевич, что был вместе со мной в Орде, как обиделся, что не взял я в жены дочь его, так стал он моим лютым врагом. К дяде князю Юрию переметнулся, подбивал его великое княжение воевати, а потом братьев моих все будоражил. Да и я, я сам во многом виноват... А как без вины прожить? Не Господь Бог я, что-нибудь да не так сделаю. Обещал жениться на дочери Ивана,— много он мне в Орде помог! — а женился на Марии, дочери Ярослава, внуке Владимира Андреевича Храброго, славного со времен Куликовской битвы. Вот и виноват: и слова не сдержал, и боярина обидел... Знаешь, что говорил он тогда: «Этот неблагодарный обязан мне великим княжением, а не устыдился меня бесчестить...»
— Невелик этот грех твой,— ласково сказал игумен Мартиниан.— Браки-то ведь на небесах заключаются. Значит, Господь вас с княгиней Марией, внукой героя Мамаева побоища, соединил, и потомству вашему великие дела предстоит вершить.
Игумен и князь трижды перекрестились на иконы в углу, дружно повторяя:
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
— А боярин Иоанн не обижаться на тебя должен был, не злобу таить, не коварство умыслять, а служить тебе верой и правдой, ибо Господь поставил тебя над ним.
— Да,— охотно согласился Василий,— этот грех невелик. Сколько их еще у меня за плечами-то... Вот как пировали все на свадьбе-то моей, опять сатана, видимо, вмешался, чтобы всех нас перессорить... Тогда Василий Косой да Дмитрий Шемяка, братья-князья, пировали у меня, и мед рекой лился, и чаши пустыми не были, и голодным никто не ушел. Да вот наместник ростовский узнал на Василии Косом пояс драгоценный, что подарил Дмитрию Донскому как зятю своему суздальский князь. Золотой этот пояс с драгоценными камнями уже на свадьбе Донского подменил некий тысяцкий Василий, положив взамен гораздо худший. Переходил он из рук в руки, пока не оказался в ту ненужную минуту на Василии Косом. Матушка моя, великая княгиня Софья Ви-товтовна, самолично сорвала пояс с брата Василия, желавшего покрасоваться дорогой вещью... Кто ж такую обиду стерпеть может? Разгневались сыновья князя Юрия Василий Косой да Дмитрий Шемяка, выскочили из палаты, свадьбу покинули И побежали из Москвы к отцу в Галич, жив он был тогда. Разграбили Ярославль да казну князей ярославских... Через пояс этот и пошла свара великая в землях наших... В третью неделю после Пасхи, в неделю жен-мироносиц, сразились мы с князем Юрием. Было у него много воинов, а у меня — совсем мало, и не было мне помощи ниоткуда... Побежал я из Москвы, сначала в Тверь, потом в Кострому... А князь Юрий, разбив мои войска, тогда пришел и сел на московский стол...
Василий Васильевич замолчал, и Мартиниан понял, что ждет он игуменского слова.
— И здесь греха твоего особенного нету,— сказал священноииок.— Великая княгиня горяча — сорвала пояс, обидела князей-братьев... Но те, поразмыслив, должны были не воевать, а мир и любовь показать своему брату — великому князю, и от пояса того — причины раздора — перед всеми отказаться.
— Твоими бы устами да мед пить, отче,— усмехнулся Василий.— А Косой да Шемяка убили боярина своего отца Семена Морозова, назвали его крамольником и лиходеем, потому как вроде подговаривал он всех князей и бояр московских уйти с Москвы от князя Юрия и бежать ко мне. Воевода и дети боярские не привыкли служить удельным князьям, а хотели служить только великому князю.
Горемычный слепец опять замолчал, но на этот раз молчал и Мартиниан: он уже всё сказал о нелепом начале великой ссоры, что случилась на свадьбе Василия и от которой пошло много бед. Не дождавшись игуменского слова, Василий Васильевич продолжал:
— Боярин Семен Морозов — это большой грех мой... Пришел князь Юрий Дмитриевич к Костроме, где сидел я с великой княгиней Софьей и женой Марией, взял град, а я, грешный, с плачем и слезами бил челом дяде своему через любимого его боярина Семена Морозова. Был этот боярин в великой славе и любви у князя Юрия. Многое мог этот любимец. Печаловался он обо мне и вымолил для меня мир и в удел Коломну. Послушался тогда любимого боярина князь Юрий Дмитриевич, сотворил пир великий для меня, дал мне дары многи и отпустил моих бояр со мною. А я, как пришел на Коломну, стал звать к себе людей отовсюду, и многие собрались ко мне. И князья, и бояре, и воеводы, и все дворяне и слуги начали отказываться от князя Юрия и пошли из Москвы ко мне в Коломну. Увидели дети Юрьевы, все трое сыновей его, что не осталось в Москве никого, оскорбились зело и учинили расправу с Семеном Морозовым. Сказали: ты, крамольник, принес эту беду отцу и нам, издавна ты наш лиходей! Убили его они, убили и бросили мертвым, а сами пошли по мою душу... Князь же Юрий, видя, что непрочно его княжение, что все люди ушли к великому князю и даже дети побежали от него, послал ко мне гонца, глаголя: «Поиде на Москву, на великое княжение, а я пойду в Звенигород...» Договорились мы тогда детей его не принимать и помощи им никакой не давать... Боялся я в то время спать ложиться, по ночам в храме Божием, светлом-пресвет-лом, молился, пока сороковины по Морозову не справили. Все думал, что душа Семена-то с укором ко мне явится: я, мол, за тебя печаловался, а ты не помог... Сколько молебнов за упокой души его отслужил! Сколько сам я молился всем святым, и Господу Богу, и Пречистой Его Матери! А вот и сейчас думаю: хоть и не моя вина в его погибели, а и на мне грех тот... Знал, чувствовал, что может обернуться плохо, да не пожалел слугу Юрьева, переступил через опасения свои.
— Совестлив ты был, княже, по молодости... Совестлив и жалостью опутан. Вот, Шемяка с братьями грех совершил, заповедь Божью преступил, человека убил, а твоя душа вся в беспокойстве до сих пор.,. Не бери, княже, на душу свою того злодеяния, пусть князья Юрьевичи отвечают за него перед Богом. Но сомнения свои помни. Ежели в другой раз похожее случится, думай, чем это слуге твоему грозит...
Мартиниан опустился на колени перед образами и, трижды осенив себя крестным знамением, произнес:
— Упокой, Господи, душу раба твоего, Семена Морозова, убиенного князьями Юрьевичами. А карать тебе их за тот грех или нет — на то Твоя Божья воля, ибо Ты все знаешь, все ведаешь и всем воздаешь по делам и помыслам.
Игумен снова сел на лавку, против великого князя. Тот, словно услышав сигнал к продолжению рассказа, начал говорить:
— Много воевали мы с Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Когда Юрий ушел в первый раз с Москвы, отдав мне великий стол, договорились мы князей беспокойных, детей его, не поддерживать. Да нарушил Юрий крестное целование, пошел на меня снова. Сам, правда, в бою не участвовал, но воеводы его со многими людьми были на стороне моих врагов. Осерчал я, двинулся с великой ратью на него под Галич. Князь Юрий бежал к Белуозеру, а я Галич взял и сжег, и людей в полон повел... И поймал я в том же году Ивана Дмитриевича Всеволожского, изменника-боярина, что перебежал от меня к дяде моему за то, что не взял дочь его в жены... Поймал его и очи ему вынул... За измену, за коварство, за то, что князя Юрия на меня подговаривал и как сатана стоял у него за левым плечом и все шептал, шептал злодейства всякие, против меня направленные.
— А его-то тебе не жалко? — спросил игумен.
— Не жалко,— твердо ответил великий князь.— Может, с него-то все и началось. Не побежал бы он к дяде, князю Юрию, сидел бы спокойно на своих землях, служил бы великому князю верой и правдой — может, и не было бы такой смуты...
— Ты в праве своем, великий князь, и казнить, и жаловать. Тебе власть от Бога дана, наказание подданные твои должны принимать смиренно, за милости твои благодарить Создателя и тебя, первого среди народов твоих... Я судить не берусь, прав ли ты в этом деле. Если прав, Господь и так за тебя, а если неправ — пусть грех падет на мою душу... Буду усердно молить Спасителя, и Его Пречистую Матерь, и всех святых, чтобы простили грех сей...
— Не первый и не последний это грех,— горько заметил Василий Васильевич,— То история с поясом золотым случилась, а то, спустя время, князя Дмитрия Шемяку в оковы заковал, да вышло — напрасно. Задумал тот жениться и взять дщерь князя Дмитрия Заозерского. Скакал он в Москву звати меня на свадьбу, да не понял я мыслей его, думал, что хочет в спешке великой в Москву въехать, зло какое мне учинити. Как донесли бояре, что Шемяка к Москве подъезжает, направил я людей своих, чтобы взяли его. Ну, поймали, послали на Коломну, а приставом был у него Иван Старков, и Коломна была за ним тогда. Я в то время сердитый на братаничей своих был: весной князь Василий Юрьевич Косой пошел из Дмитрова опять на Кострому, и жил на Костроме до пути до зимнего. А как путь стал, пошел к Галичу, а из Галича на Устюг, и вятчане с ним. Стоял он под Устюгом девять недель и город взял; Иева Булатова, десятинника владыки Ростовского, повесил, а воеводу моего Глеба Ивановича Оболенского убил, и многих устюжан сек и вешал... Думал я, что и князь Дмитрий Шемяка с ним заодно, а вышло, что он наособицу в то время был... Вроде как оттолкнул я его от себя, и стали они вправду заодно, и войска их соединились. Снова пошел князь Василий Косой с Устюга на меня. Похвалялся он с великой гордостью, что идут с ним вятчане да двор брата его Дмитрия. Встретились мы в Ростовской земле, и со мной были князь Дмитрий Юрьевич Красный, да князь Иван Андреевич Можайский со своими полками, да приехал тогда из Литвы служить ко мне князь Иван Баба. Князь Василий Косой захотел обмануть меня, прислал своих людей, чтобы взять перемирие. Не стал я спорить с братаничем, взял перемирие, полки свои распустил для кормления. Разъехались они. А Василий-то Косой в тот же день пошел на меня. Прибегают ко мне сторожи, ведают, что князь Василий Юрьевич поспешаючи идет на меня. Разослал я гонцов по всем станам своим, сам начал плакати, восклицая: «Боже милостивый! Царю небесный! Увидь неправду брата моего! Какое зло причинил я ему? Рассуди нас!» Потом, схватив трубу, начал тру-бити. И собрались люди мои, все полки вскоре были на месте и пошли противу братаничевых... Сразились мы и погнали Василия Косого. А за самим князем поскакал Борис Тоболин. Узнал Косого, взял его и начал вопити... Пришел на помощь ему князь Иван Баба и тоже узнал Василия Юрьевича. Привели братанича ко мне. Я послал его в Москву и повелел ослепить его... А брата его Дмитрия Шемяку, напротив, повелел из желез выпустить и быть ему простому на Коломне... Потом захотел его к себе привлечь, послал за ним и пожаловал... Да видно, горячо молили Бога о моем наказании боярин Иван Дмитриевич да братанич князь Василий Косой. Что им сделал, на меня же и обернулось.
Великий князь резко встал с лавки, его бледное лицо с провалившимися глазницами задергалось, густая еще борода задралась кверху, он воздел руки к небу.
— Господи! — страстно возопил Василий и неожиданно пал на колени, безошибочно повернув дергающееся лицо к углу с иконами.— Отче наш, мудрый и преславный! Почто послал Ты мне наказание такое? Не увижу больше ни жены, ни детей своих, ни солнца красного, ни звезд далеких, ни месяца светлого, ни небес голубых... Покарал Господь меня сурово за грехи мои, и куда мне теперь?! То ли в терему запереться, то ли за стенами монастырскими укрыться?! Отказаться от всего, и пусть Шемяка-злодей сидит на столе великокняжеском!
Игумен Мартиниан душой понял, что сейчас отчаяние князя было полуискренним. Настоящее-то уже пережито. И не затем пришел в обитель Василий, чтобы скрыться здесь за глухими стенами, не затем вспоминал коварного Шемяку, чтобы оставить ему свой великокняжеский стол, не затем взывал к Богу, чтобы смириться со своим несчастьем. Все мечется душой великий князь, все ищет подмоги себе, все не может окончательно решиться. Слабая, робкая душа Василия пыталась найти опору в служителях Бога, как хромец стремится опереться на два костыля. Одна опора — кирилловский игумен Трифон; теперь вот хочет великий князь заиметь вторую, чтобы твердо опираться на двух игуменов святых обителей, чтобы не упасть по дороге к великокняжескому престолу, который надо вновь воевать у двоюродного брата князя Дмитрия Шемяки.
Потому спокойно встал с лавки игумен Мартиниан, заговорил твердо и громко, так что и стоявшие за дверью, наверное, слышали:
— Господь с тобой, государь! Твое дело правое. Ты великокняжеский стол по слову отчему получил, ты первый среди князей русских. Зови к себе всех своих подданных, иди смело на Шемяку-захватчика, освободи Москву от коварного и неверного. А я, игумен данной обители, освобождаю тебя от твоего крестного целования, что давал ты Шемяке в Угличе. Все грехи твои, и этот грех тяжелый, беру на себя. И если Господь захочет покарать тебя за клятвопреступление, пусть карает меня. Но, может, услышит Господь мои долгие молитвы, может, дойдут до него слова мои искренние, ибо не для себя, не для обители, не для тебя, великого князя, беру я на душу грехи твои. Для земли Русской, для мира и покоя в ней! А теперь иди, иди в храм! Я буду следом. Вместе литургию послушаем, вместе Господу помолимся!
— Если сподобит Бог снова оказаться на великом столе, не забуду я тебя, отче! — тихо и торжественно, как клятву, произнес Василий Васильевич.
Игумен отворил дверь, и тут же прыткий слуга подставил плечо под руку великого князя. Ничего больше не говоря, Василий вышел из кельи, и вся свита великого князя отправилась к храму.
Когда затворилась дверь кельи, игумен снова опустился на колени перед святыми иконами и, горячо молясь, просил Спасителя о самом главном:
— ...вкорени в них страх Твой, и друг ко другу любовь утверди: угаси всякую распрю, отыми все разногласия и соблазны, Яко Ты есть мир наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Осень стояла радостная, красная.
Уже давно заполыхал густой осинник, багровые кисти рябин сплошь унизывали оголяющиеся ветки: не иначе как быть зиме долгой и холодной. Босоногие еще девчонки из подмонастырской слободы ходили, увешанные бусами из самых крупных наливных ягод, а на Цыпиной горе уже выскочили из своих гнезд орехи. Белки шныряли в траве, отыскивая их: готовили запасы на зиму.
Еще вчера быстрый инок из Кириллова монастыря принес в Ферапонтову обитель весть о том, что великий князь Василий Васильевич пожаловал на богомолье ко фобу преподобного старца Кирилла, отдавшего Богу душу почти двадцать лет назад. Пожаловал с малой свитой, в глубоком смирении и унынии, ибо был он великим князем всего полгода назад, а теперь стал слепцом беспомощным, веткой надломленной, рыбой, выброшенной на берег. И жив еще, и двигаться может, а света белого не видит, на святые иконы помолиться не может, вход в храм сам не найдет. Все с поводырем — преданным боярином да со слугами, с женой верной и детьми покорными, сыновьями малыми.
Жестоко отплатил великому князю его двоюродный брат Дмитрий Шемяка. Был тот удельным Галицким князем, а стал великим. Сел на Москве на великокняжеский стол, сел обманом, нарушив крестное целование. Сел хитростью лисьей, змеиным коварством, волчьей хваткой. Да что говорить... Все одно — сидит великий князь Дмитрий Юрьевич в стольном граде, и принимай его таким, каков есть. И ослушаться не моги — власть у него да сила. А слепца бедного, лишившегося очей по воле злодея-брата, теперь можно только утешить словом Божиим, благословить на страдальческую жизнь, пожелать покорности перед тяжелыми испытаниями, посланными Богом.
Следом за первой пришла и вторая весть: пожелал великий князь Василий Васильевич от Кириллова монастыря отъехать к Ферапонтовой обители, благо расстояние невелико — всего пятнадцать верст, а игумен ферапонтовский Мартиниан уже давно известен в Вологодском крае своим благочестием и праведной жизнью. Не случайно был он любимым учеником и келейником преподобного Кирилла. Через этого блаженного старца, которого еще в Москве, в Симоновом монастыре, отличал преподобный Сергий Радонежский, и на Мартиниана перешла малая толика благодати великого троицкого чудотворца.
Услышав нежданную весть, смутился духом отец Мартиниан. Смутился и возрадовался: не каждый день доводится встречать столь великого гостя. Да по совести говоря, еще ни разу с того времени, как преподобный Ферапонт основал обитель, не посещали ее такие именитые люди. Не доезжали в далекий северный монастырь великие князья, хотя бы и бывшие. Ни разу не входили в монастырские ворота правители Русской земли, ни разу не стояли у стен великокняжеские стяги.
В честь такого события игумен Мартиниан отменил для иноков все обычные осенние послушания: ни в лес за грибами и орехами, ни на рыбную ловлю, ни клюкву и бруснику собирать. Велел еще раз зорким глазом оглядеть монастырский двор и кельи, трапезную и главное — храм. Убрать все лишнее, дрова аккуратно сложить в поленницы, опилки и щепы вымести. Утварь церковную и столовую начистить, чтобы сияла, а трапезу готовить по-праздничному, благо день не постный.
Уже прошел утренний холод, уже земля прогрелась от грустного солнца, когда над дорогой, ведущей из Кириллова, поднялось легкое облако. Темные всадники на темных лошадях ехали небыстро, и лишь когда эта невеселая группа приблизилась. к обители, стало видно, что великий князь сидел на кауром молодом жеребце, обученном высоко и гордо поднимать стройные ноги, а ехавшие по бокам и чуть впереди него двое бояр как бы направляли лошадь с седоком, ведя ее за длинные поводья, не давая свернуть ни влево, ни вправо.
Игумен Мартиниан с иноками, свободными от работы в поварне, вышли из монастырских ворот и замерли на холме, дожидаясь приближения медленной процессии.
Великий князь с боярами и малой дружиной остановился внизу, почти у кромки озера, сам слез с коня и, держась за плечо невысокого, но крепкого слуги, пошел в гору, к монастырским воротам. Глаза его были закрыты черной повязкой, расшитой серебряными крестами. Рядом с Василием шел верный боярин, иногда что-то тихо говоривший князю на ухо.
Не доходя до группы иноков, Василий опустился на колени. Игумен осенил слепого князя святым крестом, а Василий протянул руки, неуверенно шаря в воздухе. Нашел быстро скользнувшую ему навстречу сухую кисть Мартиниана и прикоснулся к ней губами.
— Прими душу мою на покаяние, святый отче,— тихо молвил великий князь.
— С миром и покоем вступи в обитель нашу,— так же тихо ответил настоятель.
Положив руку на плечо малорослого боярского сына, Василий медленно и даже как-то величаво поднял голову со слепыми очами к небу и перекрестился на покрытые осиновым лемехом купола храма Рождества Пресвятой Богородицы. Медленно и чинно развернувшись, черная толпа монахов двинулась через монастырские ворота. Князь, по-прежнему держась левой рукой за крепкое плечо слуги, тоже тронулся с места, уже на ходу, истово и широко осеняя себя крестные знамением. За ним потянулись ближние бояре, а потом уж и вся княжеская свита вошла в обитель. Ворота монастыря, основанного блаженным Ферапонтом более полувека назад, медленно затворились.
Игумен Мартиниан повел бывшего великого князя в свою келью. Здесь было чисто и прохладно, перед иконами горели лампады, пахло воском и маслом.
— Отдохни с дороги, княже.
— Отдохну,— покорно согласился Василий, от дверей крестясь на тот угол кельи, где были иконы. Он махнул рукой ближним, и те покорно остались за дверью, не переступив порога жилища блаженного игумена.
Князь сел на желтую, скобленую лавку. Помолчав, сказал:
— Милостыню привез я братии, отче... Да небогата она нынче. Прости, что раньше не вспомнил об обители твоей.
— Господь простит,— ответил игумен, поправляя пегую уже бороду, задевающую цепь, на которой висел крест-мощевик.— Спасибо, что вспомнил о нас, грешных, в горести своей и пришел помолиться с нами.
— Душа тоскует, Божьего слова просит,— вдруг быстро заговорил Василий, почти беспрестанно крестясь,— Грехи тяжкие грузом безмерным лежат на плечах моих, и никак не освободиться, не скинуть их, чтобы полегчало хоть немного...
— Ты ведь из Кирилловой обители к нам? — спросил Мартиниан.
— Оттуда,— ответил князь.— Как получил от Шемяки во владение Вологду, как приехал в город, который никогда не видел и уж не увижу, лихо мне стало. Так лихо, что не усидел я там, двинулся в славную Кириллову обитель, чтобы помолиться и покаянием облегчить страдания мои...
— С игуменом Трифоном виделся? Говорил с ним?
— И виделся, и говорил... И молился с тамошней братией, и милостыню им привез... Да вот мало показалось душе, решил и твою славную обитель навестить...
— Моления и покаяния никогда не бывает много,— ответил Мартиниан.— Видно, душа твоя не полностью очистилась от грехов. Тяжелы они, словно вериги. Ропщешь ты, княже, на волю Божию, не можешь примириться с победой врага своего, не можешь простить злодейство его.
— Нет, отче, простил и не ропщу,— заговорил князь, но по горячности, по голосу чувствовалось, что обида крепко засела в душе.
— Ропщешь,— тихо, но твердо сказал игумен.— Долю свою тяжкую в душе проклинаешь. Господа нашего великий промысл не принимаешь. А ты прими, прими его...
Игумен сел рядом с князем, взял его руку в свою, приложил к груди.
— Ты, княже, высоко сидел на земле. Думал, наверное: вот как Бог выделяет меня среди всех людей, вот как Он любит меня, как простирает надо мной и моим великим княжеством длань свою. А ты вот о чем подумай: ведь неисповедимы пути Господни. Раз послал Он тебе такое испытание — значит, на то Его высшая воля. И ты прими это наказание как благодать. Благодари Господа за то, что сподобил тебя страдать в этой жизни, ибо через страдание многое понял ты, многое постиг. Господь никого просто так не наказывает, без воли Его и волос с головы человека не упадет. Значит, надо Ему, чтобы страдал ты... Может, крепость веры твоей, покорность твою воле Его проверить хочет...
— Правду, правду говоришь ты, отче,— горячо откликнулся Василий.— Не вижу я тебя и никогда не увижу, а душу твою чувствую и правду слов твоих ощущаю, и благословение твое получить хочу, ибо дух святой обитает в келий сей.
— Горяч ты, княже, а духом некрепок,— вздохнул игумен.— В уныние впадаешь быстро, скорбишь много, а молишься мало. Да и во время молитвы мысли улетают к земному от небесного, так что истинной веры в них мало, искренности мало...
— А ты на очи мои посмотри! — вскрикнул Василий, срывая повязку.— Было ли такое на Руси? Со мной, с великим князем, брат мой меньший князь Дмитрий такое сделал...
Глазницы Василия были пусты. Глаза еще не совсем зажили, красные рубцы виднелись на воспаленных веках, из них текло, и глубокие борозды у крыльев носа были мокрые.
— Воочию вижу грех святотатца Шемяки,— сказал игумен,— А на Руси всякое было. Вот переписывали иноки недавно летопись нашу начальную, под названием «Откуда есть пошла Русская земля». С давних времен ведется она, а то, что хочу рассказать тебе, было в 6605 году от сотворения мира. Сидел тогда в Киеве князь Святополк, да недружно жили князья. Собрались они однажды на совет для установления мира и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да объединимся отныне единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей...» На том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся земля Русская». Разошлись они, и рады были все люди, только дьявол был огорчен их согласием. Влез сатана в сердце некоторым мужам, и стали они говорить Святополку против одного — Василька Ростислави-ча. Особенно старался Давыд, который внушал Святополку: «Если не схватим Василька, то ни тебе не княжить в Киеве, ни мне во Владимире». И послушался его Святополк. А тут как раз Василько оказался недалеко от Киева. Стал Святополк посылать людей к Васильку — приглашать на именины свои. Василько же отказался: «Не могу медлить, как бы не случилось дома войны». А коварный Давыд сказал Святополку: «Видишь — не помнит о тебе даже здесь, под твоей рукой. Когда же уйдет в свою волость, сам увидишь, что займет города твои. Тогда помянешь меня. Лучше призови его теперь, схвати и отдай мне». Послушался Святополк, послал снова за Васильком, говоря: «Если не хочешь остаться до именин моих, тогда приходи сейчас, посидим все вместе». Василько обещал. Сел на коня, поехал. Встретил его отрок и предупредил: «Не езди, княже, хотят тебя схватить». Да Василько не поверил: только ведь целовали крест. Подумав так, перекрестился и сказал: «Воля Господня да будет». И приехал с малой дружиной на княжий двор. Обманули князья Василька: схватили, оковали двойными оковами, приставили стражу. А Давыд начал подговаривать на ослепление: «Если не сделаешь этого, а отпустишь его, то ни тебе не княжить, ни мне». И в ту же ночь повезли Василька в Белгород, небольшой город около Киева. Привезли в телеге закованным, высадили и повели в избу малую. Сидя там, увидел Василько слугу, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить, и возопил к Богу с плачем великим и со стенаниями. Пришли Святополк с Давыдом и люди их, начали расстилать ковер. Разостлав, схватили Василька, и хотели повалить, и боролись с ним крепко, и не смогли его повалить. Тут вошли другие, повалили, связали и, сняв доску с печи, положили на грудь ему. Сели по обе стороны двое и не могли удержать Василька. Подошли двое других, сняли другую доску с печи, сели и придавили так сильно, что грудь затрещала. И приступил овчарь Святополков; подняв нож, намеревался ударить в глаз, но промахнулся и порезал лицо, и видна была та рана на лице у Василька всегда. Затем ударил его в глаз и исторг глаз, и потом — в другой глаз и вынул другой глаз. И был Василько в то время как мертвый. Взяв его на ковре, взвалили на телегу, как мертвого, повезли во Владимир. В одном месте остановились, стащили с него рубашку, всю окровавленную, и дали попадье постирать. Попадья же, постирав, надела на него, когда те обедали; и стала оплакивать его попадья, как мертвого. Услышал он плач и спросил, где находится. Ему ответили. Потом попросил воды. Испил, и вернулась к нему душа его. Опомнился, пощупал рубашку и сказал: «Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той рубашке кровавой смерть принял и предстал перед Богом...»
Великий князь слушал рассказ игумена, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону.
При последних словах возопил он:
— Узнаю, узнаю себя в том далеком предке моем... И страдания свои узнаю, и несправедливость ту великую на себе ощущаю!
— А сам-то ты чист душой? — тихо, почти шепотом спросил Мартиниан.
— Грешен, грешен, батюшка, отец мой! Грешен перед Господом нашим и перед людьми, грешен в том же великом грехе, ибо сам, дважды совершал такое же черное дело! За это и наказал меня справедливый Бог наш, чтобы почувствовал сам я терзания тех!
— Дела мирские полны злобы великой,— проговорил отец Мартиниан,— Не все нам, чернецам, ведомо. Многого не знаем мы за своими высокими заборами, за молитвами и постом.
— Расскажу, расскажу тебе, отче, как все было. Все грехи мои поведаю, ибо чувствую я в тебе душу безгрешную, к Господу приближенную. Рассуди меня с самим собой, святый отче. Как перед Господом, который все видит, исповедаюсь тебе, все грехи свои вспомню, да только хватит ли у тебя терпения слушать?
— Не беспокойся, княже,— ласково сказал игумен,— уж терпения-то мне точно хватит. В нашей монастырской жизни без терпения и смирения невозможно...
— Ну так слушай меня, чернец. Слушай про жизнь мою княжескую, беспокойную. Слушай про распри междоусобные, слушай про кровь пролитую, про коварство и ненависть...
И начал Василий Васильевич рассказывать.
— Уж более 20 лет тянется наша вражда с братом отца моего и его семьей. Как скончался батюшка мой, великий князь Василий Дмитриевич, как закрыл он очи после тридцати шести лет великого княжения, положили его в Архангельском соборе, возле гроба деда моего, князя Дмитрия Донского. Вступил я на престол по завещанию отчему, а не по заветам старого времени, и было мне всего десять лет. Дядя мой, князь Юрий Дмитриевич, находился тогда в своем Звенигородском уделе, и послали к нему гонцов — требовать присяги и покорности. Однако не соглашался князь Юрий, уехал подальше от Москвы, в Галич, но послали людей и туда — уговаривать его. Князь Юрий уж из Галича прислал ко мне послов и заключил со мной перемирие, но крест целовать и присягать на верность мне, своему малолетнему племяннику, отказался. Открыто заявил, что будет добиваться великого княжения, потому что по древним обычаям оно должно переходить не от отца к сыну, а по старшинству. В том же году войска мои и трех дядей моих — князей Андрея, Петра и Константина Дмитриевичей двинулись к Галичу, но Юрий перебрался в Нижний Новгород. Пошли на Нижний — Юрий снова подался в Галич. Решили послать туда митрополита Фотия. Фотий-митрополит не отрекался, с радостью пошел в Галич в то же лето. Князь Юрий Дмитриевич услышал о прибытии митрополита, собрал всю отчину свою и встретил с детьми своими, с боярами и лучшими людьми. Еще собрал чернь из градов своих, и из сел, и из деревень, и поставил многое множество по горе от града. Встретил митрополита с честью, являл ему многих людей своих. Митрополит же пошел к соборной церкви Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, помолился, потом пошел к келье своей, где ему надлежало стояти, и начал глаголати князю Юрью Дмитриевичу о мире, чтобы не было кровопролития между ним и великим князем. Князь Юрий просил перемирия на время, а мира не хотел и не внимал словам митрополита. Разгневался Фотий-митрополит и, не благословив князя и град его, ушел оттуда. И в тот час начался мор великий — Господь поразил Галич за упрямство князя. Устрашился князь Юрий, сел на коня, бросился вслед за святителем, догнал его уже на дороге в Москву, начал бити ему челом, скорбеть о своем согрешении и умолял помириться. Так умолен был Фотий митрополит, возвратился и благословил и князя, и град его, и от того часа сошел гнев Божий и перестал быти мор великий. Князь Юрий многую честь воздал святителю и отпустил его, проводив со всем народом. По отшествии из града Галича князь Юрий послал бояр своих Бориса Галичского и Данила Чешка в Москву, ко мне на поклон. Договорились мы, что князь Юрий не будет добиваться великого княжения сам, а поедем мы к царю, ордынскому хану, и кого тот пожалует своей ханской грамотой, тот и будет великим князем Владимирским, и Новагорода Великого, и всея Руси. Мор тот пришел и в Тверь, и в Москву. Умерли один за другим три князя Тверских. И в Москве умер дядя мой князь Петр и сыновья Владимира Андреевича Серпуховского, который вместе с дедом моим Дмитрием Донским сражался на Куликовом поле и был назван Храбрым. Гибли люди тысячами, а после беды той как после Ноева Потопа, народу на землях наших поубавилось, а кто выжил — стали худыми да слабыми, так что воевать совсем не годились.
Василий Васильевич замолчал, отдыхая от столь долгой речи, а игумен Мартиниан вспомнил свое.
— Помню, помню тот великий мор. Не посетил он наши северные края, но люди разные приходили, рассказывали, плакали. Тогда же, в лето 6935 от сотворения мира, месяца июня в девятый день преставился игумен и отец наш Кирилл и положен был в своем монастыре у Сиверского озера. Провожая ко гробу святые и честные мощи его, был я преисполнен грусти о добром отце и учителе, но стал с еще большим рвением служить в монастыре. Призывая и поминая в молитвах святого отца, хранил я в сердце своем его праведную жизнь...
— Ты хорошо знал преподобного Кирилла, отче? — внезапно спросил великий князь, следуя каким-то своим мыслям.
— Хорошо,— просто ответил игумен.— Меня батюшка мой, царствие ему небесное, еще несмышленышем привел в его обитель.
— Слышал я, благоволил тебе игумен Кирилл?
— Святой старец, по доброте своей, пригрел меня, грешного, и до самой кончины своей опекал. Учиться меня отдал дьяку монастырскому, Алексею Павлову. Большой учености был человек, да будет ему рай в царствии небесном. Хорошо обучал детей грамоте и переписке книг, и от него быстро перенял я книжную премудрость. А когда возвратился в монастырь, сам авва Кирилл постриг меня в иноческий чин и взял к себе в келью, чтобы смотреть за моим становлением на трудном пути монашеском.
— Слышал я, поистине святым был тот игумен.
— Воистину. Наставлял меня словом и делом и выделял среди учеников своих не по заслугам моим, а только по величайшей доброте своей.
— Не пришлось мне приобщиться к святости его... Каков он был — не ведаю...
— Миленький такой, сухонький, как грибочек стареющий в лесу. Он ведь на Сиверское озеро пришел уже в шестьдесят лет, а преставился в девяносто. Тридцать лет обитель свою держал в строгости, устав нарушать не позволял никому. Не наказывал иноков, но увещевал их словом проникновенным и примером своим показывал нестойким истинную жизнь монашескую. Наверное, говорили тебе об иконе у раки святого? Ее здешний иконописец игумен Глушицкий Дионисий написал еще при жизни преподобного Кирилла. Я уж потом попросил одного из наших иноков образ сей мне для кельи изобразить. Постарался инок, списал один к одному, только размером сделал меньше, чтобы мог я образ отца и учителя моего всюду брать с собой. Молюсь я перед образом угодника Божьего и взываю к старцу великому, чтобы просил Господа об обителях наших и не забывал бы среди небесных кущей меня, грешного...
Василий встал с лавки, неверными шагами ступил вперед, попросил:
— Дай прикоснуться к святыне той... Мартиниан не стал снимать образ с полки, взял
руку великого князя и осторожно, чтобы не задеть огонек лампады, коснулся ею иконы, темно мерцавшей в отблесках колеблющегося пламени. С нее смотрел на игумена и великого князя маленький, сухонький старичок в монашеской мантии, в куколе, спущенном на плечи. Только глаза были живые, словно через них заглядывала в игуменскую келью душа так почитаемого здесь старца.
Василий стоял, держа руку на святой иконе; трепещущими пальцами водил по гладкой заолифленной поверхности, словно старался почувствовать ее тепло, ее населенность и невидимую благодать, идущую от образа святого.
— Денисей-старец писал икону, когда отче Кирилл заболел сильно. Думали — предстанет пред очами Божиими, вот и готовили образ ко гробу блаженного. А он поправился и еще три года прожил на радость инокам. Когда же по воле Господа преставился, тогда и поставили образ тот у гробницы...
Великий князь опустил руку, тяжело вздохнул:
— Сурово покарал меня Господь за грехи мои... И представить я раньше не мог, как тяжело это — не видеть Божьего света, не зрети ничего из его созданий...
— Суров Господь во гневе своем, но и милосерд,— коротко ответил Мартиниан.
Снова долго молчали, думая каждый о своем, и молились, тоже каждый о своем, и просили Господа, и Его Пречистую Матерь о милости, о заступлении, о прощении грехов.
Наконец великий князь прервал молчание.
— А почему ты, отче, не принял после преподобного Кирилла обитель в руки свои?
— Молод я еще был,— откликнулся Мартиниан,— не готов к игуменскому служению. Я тогда уже отдельно от аввы Кирилла жил, в своей келье. Он меня в дьяконы посвятил, служил я с ним в соборной монастырской церкви. Потом удостоен был звания иерейского... Да разные люди есть и среди монашества. Одни через смирение и послушание находят в иночестве душевный покой, а у других в душе тяжелый камень мирской зависти ворочается. Не могут они жить в тихой радости Божьего мира и покоя, все гложет их душу грех, порожденный сатаной. Вот и в обители Кирилловой так... Пока старец управлял и держал всех в строгости, оно вроде и незаметно было, а как преставился — поднялось на поверхность. Не захотел я быть причиной раздоров, не захотел вбирать в душу свою мирские грехи. Ушел подальше, на Вожь-озеро, чтобы жить в одиночестве и беседовать только с Богом... Да не получилось долго безмолвствовать... Собрались иноки, устроили малый монастырь.
— А здесь ты как оказался, отче?
— Пришел сюда помолиться. Игумен здешний преставился, и жили монахи без наставника. Тужили очень. Стала братия просить меня остаться у них...
— Ты и остался?
— Нет, тогда не остался. Только пообещал вернуться. Ушел снова в свою пустынь, готовился. А братия здешняя ждала меня. Был я на Вожь-озере семь лет, потом уж снова пришел сюда. Встретили меня, грешного, с радостью, обласкали и дружно согласились видеть меня игуменом. Отправились в Можайск, к князю Михаилу Андреевичу, чтобы согласие дал, ибо была это его вотчина. Тот писанием утвердил меня в игумены, одарил монастырь милостыней и отпустил нас.
— Когда ж то было, отче?
— Да уже более десяти лет назад. С тех пор игуменствую, направляю обитель по Божьему пути, блюду заповеди Кирилловы...
— Строго у вас в монастыре?
— Строго. Как у Кирилла. По его пути стараюсь вести всех. Как говорил евангелист Лука; «И от всякого, кому много дано, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут». Общежительский устав строго блюдем, и трапеза у нас общая, незавидная и благочинная. Ядение всем одинаковое, смиренное и молчаливое.
— А меня бы ты к себе в обитель взял?
— Живи, княже, ежели хочешь, но в иноки не постригу.
— Почто?
— У тебя другая дорога, государь. Тебе великий стол воевать, Шемяку беззаконного из Москвы гнать...
— Вот и настоятель Кирилловой обители то же говорит...
Мартиниану показалось, что вдруг как-то изменилось лицо князя, в темноте кельи будто сверкнули очи государя и тут же закрылись.
«Господи,— мысленно перекрестился игумен,— нет в нем ни хитрости, ни лукавства. Хорошо это или плохо — Бог весть. Хочет, хочет князь на свой великий стол, да клятву, данную супостату, нарушить боится. И слова одного игумена кажется ему мало».
— Разрешил тебя Трифон от клятвы Шемякиной, данной в Угличе? — прямо спросил Мартиниан.
— Разрешил,— ответил Василий и почему-то вздохнул.
— Что же ты маешься?
— Поддержки ищу,— не стал хитрить великий князь.— Клятву я давал искреннюю, все духовенство, высшее с митрополитом нареченным Ионою было при сем. Чтобы разрешить меня от нее, слов одного игумена неизвестного, хоть и преславной обители Кирилловой, может, и недостаточно. А ты, отче, от самого Кирилла славу перенял, а Кирилл — от преподобного Сергия, чудотворца Радонежского... Потому ищу я у тебя духовного совета и помощи. Возьмешь и ты на себя грех мой, будешь Господа молить за меня, великого князя, верю, что услышаны будут молитвы твои. Хоть и не вижу я тебя, а веру в тебя имею великую... Чувствую невидимые нити, что связывают душу твою с Царством Господним и с великими чудотворцами Сергием и Кириллом. А они молятся за нас, грешных, у престола Божьего.
Мартиниан сидел на краю лавки, прямой и напряженный. Глаза его, не отрываясь, смотрели на 32
лицо великого князя, на его ввалившиеся щеки, нервно подрагивающие больные веки, беспокойные тонкие бледные пальцы.
— А ведь много грехов за тобой, княже,— тихо сказал Мартиниан.— Не задавили бы они нас вместе с Трифоном.
Великий князь как-то вдруг сник, вздохнул глубоко.
— Прав ты, отче, во всем прав. Единственно, на что надеюсь,— это на великую милость Божию и на твои вкупе с игуменом Трифоном молитвы. Смирился было я, не хотел идти против брата князя Дмитрия, даже о монастыре подумывал, да бояре мои в один голос твердят: «Нельзя, нельзя самодержцу Русской Великой земли в такой дальней пустыне быть заточенному!» Да ведь бояре что... Они по чину своему должны служить и прославлять великого князя... А твое слово, отче, независимо... Оно от Бога, от Царицы Небесной, от великих чудотворцев... Твоего слова жажду...
— Подожди,— строго сказал Мартиниан.— Исповедь твоя только началась...
— Да, да,— снова оживился великий князь,— Все тебе расскажу, всю душу открою, ни одного уголка темного не оставлю, ни одного пятнышка..,
Василий Васильевич сложил руки на коленях, низко опустил голову и, помолчав немного, продолжил свой рассказ.
— Пять лет прошло, как вступил я, недостойный, на отцовский стол, пять лет жил за спиной матери моей Софьи, дочери великого князя литовского Ви-товта. Уж и Витовт умер, и митрополит Фотий преставился, когда поехали мы с дядькой моим князем Юрием Дмитриевичем в Орду, к великому царю Махмету... Страшно было... На праздник Успения Пречистой, по завершении литургии, повелел я именем своим лети молебен Пресвятой Богородице и великому чудотворцу Петру, и слезы проливал, и милостыню многу раздавал на все церкви града Москвы, и монастыри, и нищим всем. Отправился я в тот же день в Орду, пообедал на лугу против Симонова монастыря и пошел в путь свой. А в сентябре и князь Юрий из Звенигорода двинулся следом. Встретились мы с ним в Орде... Да вот беда: одни князья ордынские были за меня и выказывали мне великий почет и уважение, а другие стояли за Юрия Дмитриевича и обещали ему помогати. Был тогда со мной боярин Иван Всеволожский, начал он бити челом великим князьям ордынским за своего государя, уговаривал дать великое княжение мне, сыну Василия Дмитриевича, внуку Дмитрия Донского. Всю зиму пробыли мы в Орде. Царь велел своим князьям судити нас, князей русских, и многая распря была между нами. Говорили одни, что я, великий князь Василий Васильевич, ищу стола своего по отечеству и дедству своему, а князь Юрий Дмитриевич по летописцам и старым спискам. Сказал тогда боярин Иван Всеволожский, что я ищу великого княжения по цареву желанию, по слову и ярлыку царя ордынского, а князь Юрий — по мертвой грамоте. И что я по завещанию отца моего уже который год сижу на великом княжении, и раз царь ордынский молчал все время — значит, и по его желанию. И дань плачу исправно. Тогда царь Махмет дал великое княжение мне, князю Василию Второму, и повелел дяде моему Юрию Дмитриевичу вести коня подо мной. Не захотел я дядю своего, родственника ближнего, бесчестить, отказался от того умысла. А царь ордынский по слову князя своего Ширин-Тегини отдал Юрию во владение град Дмитров со всеми волость-ми. Отпустил нас царь, и пришли мы на Москву в Петров день, а с нами посол царев Мансыр-Улан царевич. Он посадил меня на великое княжение у Пречистыя у золотых врат, а князь Юрий Дмитриевич пошел в свою вотчину в Звенигород, а оттоле в Дмитров. Ушел он потом в Галич, а я, как великий князь, взял Дмитров себе...
Василий Васильевич замолчал, нервно вслушиваясь в тишину кельи, чутким ухом слепца стараясь уловить что-нибудь тревожащее в молчании игумена, да, видно, ничего не уловил и потому продолжал дальше, теребя беспокойными пальцами край рубахи:
— И все-таки князь-дядя два раза сидел на великом столе, два раза пришлось мне от него бегать, уступая Москву. Правда, во второй раз совсем уж недолго царствовал: шестьдесят лет ему было, а скончался он внезапно летом. Старший сын Юриев, Василий Косой, тут же решил назвать себя государем Московским. Но братья его, Дмитрий Шемяка да Дмитрий Красный, сказали: «Ежели Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то мы не хотим видеть на оном и тебя...» Помирились они со мной, а Косого выгнали из стольного града.
— Сколько же раз вы мирились с Шемякой и снова ссорились...— не спрашивая, а как бы удивляясь, вздохнул Мартиниан.
— Много, отче, много,— с печалью воскликнул Василий.— Если все считать да по летам вспоминать, нам с тобой и рук-ног не хватит... Нет покоя мне, нет мира на моей земле. Вот уже более двадцати лет прошло, как сел я на отцовский престол, а всё беды да напасти, всё войны и разорения, всё плачи да стоны... Не сумел я княжество в руках удержать, с братаничами двоюродными справиться не смог. Как ушел от меня боярин Иван Дмитриевич, что был вместе со мной в Орде, как обиделся, что не взял я в жены дочь его, так стал он моим лютым врагом. К дяде князю Юрию переметнулся, подбивал его великое княжение воевати, а потом братьев моих все будоражил. Да и я, я сам во многом виноват... А как без вины прожить? Не Господь Бог я, что-нибудь да не так сделаю. Обещал жениться на дочери Ивана,— много он мне в Орде помог! — а женился на Марии, дочери Ярослава, внуке Владимира Андреевича Храброго, славного со времен Куликовской битвы. Вот и виноват: и слова не сдержал, и боярина обидел... Знаешь, что говорил он тогда: «Этот неблагодарный обязан мне великим княжением, а не устыдился меня бесчестить...»
— Невелик этот грех твой,— ласково сказал игумен Мартиниан.— Браки-то ведь на небесах заключаются. Значит, Господь вас с княгиней Марией, внукой героя Мамаева побоища, соединил, и потомству вашему великие дела предстоит вершить.
Игумен и князь трижды перекрестились на иконы в углу, дружно повторяя:
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
— А боярин Иоанн не обижаться на тебя должен был, не злобу таить, не коварство умыслять, а служить тебе верой и правдой, ибо Господь поставил тебя над ним.
— Да,— охотно согласился Василий,— этот грех невелик. Сколько их еще у меня за плечами-то... Вот как пировали все на свадьбе-то моей, опять сатана, видимо, вмешался, чтобы всех нас перессорить... Тогда Василий Косой да Дмитрий Шемяка, братья-князья, пировали у меня, и мед рекой лился, и чаши пустыми не были, и голодным никто не ушел. Да вот наместник ростовский узнал на Василии Косом пояс драгоценный, что подарил Дмитрию Донскому как зятю своему суздальский князь. Золотой этот пояс с драгоценными камнями уже на свадьбе Донского подменил некий тысяцкий Василий, положив взамен гораздо худший. Переходил он из рук в руки, пока не оказался в ту ненужную минуту на Василии Косом. Матушка моя, великая княгиня Софья Ви-товтовна, самолично сорвала пояс с брата Василия, желавшего покрасоваться дорогой вещью... Кто ж такую обиду стерпеть может? Разгневались сыновья князя Юрия Василий Косой да Дмитрий Шемяка, выскочили из палаты, свадьбу покинули И побежали из Москвы к отцу в Галич, жив он был тогда. Разграбили Ярославль да казну князей ярославских... Через пояс этот и пошла свара великая в землях наших... В третью неделю после Пасхи, в неделю жен-мироносиц, сразились мы с князем Юрием. Было у него много воинов, а у меня — совсем мало, и не было мне помощи ниоткуда... Побежал я из Москвы, сначала в Тверь, потом в Кострому... А князь Юрий, разбив мои войска, тогда пришел и сел на московский стол...
Василий Васильевич замолчал, и Мартиниан понял, что ждет он игуменского слова.
— И здесь греха твоего особенного нету,— сказал священноииок.— Великая княгиня горяча — сорвала пояс, обидела князей-братьев... Но те, поразмыслив, должны были не воевать, а мир и любовь показать своему брату — великому князю, и от пояса того — причины раздора — перед всеми отказаться.
— Твоими бы устами да мед пить, отче,— усмехнулся Василий.— А Косой да Шемяка убили боярина своего отца Семена Морозова, назвали его крамольником и лиходеем, потому как вроде подговаривал он всех князей и бояр московских уйти с Москвы от князя Юрия и бежать ко мне. Воевода и дети боярские не привыкли служить удельным князьям, а хотели служить только великому князю.
Горемычный слепец опять замолчал, но на этот раз молчал и Мартиниан: он уже всё сказал о нелепом начале великой ссоры, что случилась на свадьбе Василия и от которой пошло много бед. Не дождавшись игуменского слова, Василий Васильевич продолжал:
— Боярин Семен Морозов — это большой грех мой... Пришел князь Юрий Дмитриевич к Костроме, где сидел я с великой княгиней Софьей и женой Марией, взял град, а я, грешный, с плачем и слезами бил челом дяде своему через любимого его боярина Семена Морозова. Был этот боярин в великой славе и любви у князя Юрия. Многое мог этот любимец. Печаловался он обо мне и вымолил для меня мир и в удел Коломну. Послушался тогда любимого боярина князь Юрий Дмитриевич, сотворил пир великий для меня, дал мне дары многи и отпустил моих бояр со мною. А я, как пришел на Коломну, стал звать к себе людей отовсюду, и многие собрались ко мне. И князья, и бояре, и воеводы, и все дворяне и слуги начали отказываться от князя Юрия и пошли из Москвы ко мне в Коломну. Увидели дети Юрьевы, все трое сыновей его, что не осталось в Москве никого, оскорбились зело и учинили расправу с Семеном Морозовым. Сказали: ты, крамольник, принес эту беду отцу и нам, издавна ты наш лиходей! Убили его они, убили и бросили мертвым, а сами пошли по мою душу... Князь же Юрий, видя, что непрочно его княжение, что все люди ушли к великому князю и даже дети побежали от него, послал ко мне гонца, глаголя: «Поиде на Москву, на великое княжение, а я пойду в Звенигород...» Договорились мы тогда детей его не принимать и помощи им никакой не давать... Боялся я в то время спать ложиться, по ночам в храме Божием, светлом-пресвет-лом, молился, пока сороковины по Морозову не справили. Все думал, что душа Семена-то с укором ко мне явится: я, мол, за тебя печаловался, а ты не помог... Сколько молебнов за упокой души его отслужил! Сколько сам я молился всем святым, и Господу Богу, и Пречистой Его Матери! А вот и сейчас думаю: хоть и не моя вина в его погибели, а и на мне грех тот... Знал, чувствовал, что может обернуться плохо, да не пожалел слугу Юрьева, переступил через опасения свои.
— Совестлив ты был, княже, по молодости... Совестлив и жалостью опутан. Вот, Шемяка с братьями грех совершил, заповедь Божью преступил, человека убил, а твоя душа вся в беспокойстве до сих пор.,. Не бери, княже, на душу свою того злодеяния, пусть князья Юрьевичи отвечают за него перед Богом. Но сомнения свои помни. Ежели в другой раз похожее случится, думай, чем это слуге твоему грозит...
Мартиниан опустился на колени перед образами и, трижды осенив себя крестным знамением, произнес:
— Упокой, Господи, душу раба твоего, Семена Морозова, убиенного князьями Юрьевичами. А карать тебе их за тот грех или нет — на то Твоя Божья воля, ибо Ты все знаешь, все ведаешь и всем воздаешь по делам и помыслам.
Игумен снова сел на лавку, против великого князя. Тот, словно услышав сигнал к продолжению рассказа, начал говорить:
— Много воевали мы с Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Когда Юрий ушел в первый раз с Москвы, отдав мне великий стол, договорились мы князей беспокойных, детей его, не поддерживать. Да нарушил Юрий крестное целование, пошел на меня снова. Сам, правда, в бою не участвовал, но воеводы его со многими людьми были на стороне моих врагов. Осерчал я, двинулся с великой ратью на него под Галич. Князь Юрий бежал к Белуозеру, а я Галич взял и сжег, и людей в полон повел... И поймал я в том же году Ивана Дмитриевича Всеволожского, изменника-боярина, что перебежал от меня к дяде моему за то, что не взял дочь его в жены... Поймал его и очи ему вынул... За измену, за коварство, за то, что князя Юрия на меня подговаривал и как сатана стоял у него за левым плечом и все шептал, шептал злодейства всякие, против меня направленные.
— А его-то тебе не жалко? — спросил игумен.
— Не жалко,— твердо ответил великий князь.— Может, с него-то все и началось. Не побежал бы он к дяде, князю Юрию, сидел бы спокойно на своих землях, служил бы великому князю верой и правдой — может, и не было бы такой смуты...
— Ты в праве своем, великий князь, и казнить, и жаловать. Тебе власть от Бога дана, наказание подданные твои должны принимать смиренно, за милости твои благодарить Создателя и тебя, первого среди народов твоих... Я судить не берусь, прав ли ты в этом деле. Если прав, Господь и так за тебя, а если неправ — пусть грех падет на мою душу... Буду усердно молить Спасителя, и Его Пречистую Матерь, и всех святых, чтобы простили грех сей...
— Не первый и не последний это грех,— горько заметил Василий Васильевич,— То история с поясом золотым случилась, а то, спустя время, князя Дмитрия Шемяку в оковы заковал, да вышло — напрасно. Задумал тот жениться и взять дщерь князя Дмитрия Заозерского. Скакал он в Москву звати меня на свадьбу, да не понял я мыслей его, думал, что хочет в спешке великой в Москву въехать, зло какое мне учинити. Как донесли бояре, что Шемяка к Москве подъезжает, направил я людей своих, чтобы взяли его. Ну, поймали, послали на Коломну, а приставом был у него Иван Старков, и Коломна была за ним тогда. Я в то время сердитый на братаничей своих был: весной князь Василий Юрьевич Косой пошел из Дмитрова опять на Кострому, и жил на Костроме до пути до зимнего. А как путь стал, пошел к Галичу, а из Галича на Устюг, и вятчане с ним. Стоял он под Устюгом девять недель и город взял; Иева Булатова, десятинника владыки Ростовского, повесил, а воеводу моего Глеба Ивановича Оболенского убил, и многих устюжан сек и вешал... Думал я, что и князь Дмитрий Шемяка с ним заодно, а вышло, что он наособицу в то время был... Вроде как оттолкнул я его от себя, и стали они вправду заодно, и войска их соединились. Снова пошел князь Василий Косой с Устюга на меня. Похвалялся он с великой гордостью, что идут с ним вятчане да двор брата его Дмитрия. Встретились мы в Ростовской земле, и со мной были князь Дмитрий Юрьевич Красный, да князь Иван Андреевич Можайский со своими полками, да приехал тогда из Литвы служить ко мне князь Иван Баба. Князь Василий Косой захотел обмануть меня, прислал своих людей, чтобы взять перемирие. Не стал я спорить с братаничем, взял перемирие, полки свои распустил для кормления. Разъехались они. А Василий-то Косой в тот же день пошел на меня. Прибегают ко мне сторожи, ведают, что князь Василий Юрьевич поспешаючи идет на меня. Разослал я гонцов по всем станам своим, сам начал плакати, восклицая: «Боже милостивый! Царю небесный! Увидь неправду брата моего! Какое зло причинил я ему? Рассуди нас!» Потом, схватив трубу, начал тру-бити. И собрались люди мои, все полки вскоре были на месте и пошли противу братаничевых... Сразились мы и погнали Василия Косого. А за самим князем поскакал Борис Тоболин. Узнал Косого, взял его и начал вопити... Пришел на помощь ему князь Иван Баба и тоже узнал Василия Юрьевича. Привели братанича ко мне. Я послал его в Москву и повелел ослепить его... А брата его Дмитрия Шемяку, напротив, повелел из желез выпустить и быть ему простому на Коломне... Потом захотел его к себе привлечь, послал за ним и пожаловал... Да видно, горячо молили Бога о моем наказании боярин Иван Дмитриевич да братанич князь Василий Косой. Что им сделал, на меня же и обернулось.
Великий князь резко встал с лавки, его бледное лицо с провалившимися глазницами задергалось, густая еще борода задралась кверху, он воздел руки к небу.
— Господи! — страстно возопил Василий и неожиданно пал на колени, безошибочно повернув дергающееся лицо к углу с иконами.— Отче наш, мудрый и преславный! Почто послал Ты мне наказание такое? Не увижу больше ни жены, ни детей своих, ни солнца красного, ни звезд далеких, ни месяца светлого, ни небес голубых... Покарал Господь меня сурово за грехи мои, и куда мне теперь?! То ли в терему запереться, то ли за стенами монастырскими укрыться?! Отказаться от всего, и пусть Шемяка-злодей сидит на столе великокняжеском!
Игумен Мартиниан душой понял, что сейчас отчаяние князя было полуискренним. Настоящее-то уже пережито. И не затем пришел в обитель Василий, чтобы скрыться здесь за глухими стенами, не затем вспоминал коварного Шемяку, чтобы оставить ему свой великокняжеский стол, не затем взывал к Богу, чтобы смириться со своим несчастьем. Все мечется душой великий князь, все ищет подмоги себе, все не может окончательно решиться. Слабая, робкая душа Василия пыталась найти опору в служителях Бога, как хромец стремится опереться на два костыля. Одна опора — кирилловский игумен Трифон; теперь вот хочет великий князь заиметь вторую, чтобы твердо опираться на двух игуменов святых обителей, чтобы не упасть по дороге к великокняжескому престолу, который надо вновь воевать у двоюродного брата князя Дмитрия Шемяки.
Потому спокойно встал с лавки игумен Мартиниан, заговорил твердо и громко, так что и стоявшие за дверью, наверное, слышали:
— Господь с тобой, государь! Твое дело правое. Ты великокняжеский стол по слову отчему получил, ты первый среди князей русских. Зови к себе всех своих подданных, иди смело на Шемяку-захватчика, освободи Москву от коварного и неверного. А я, игумен данной обители, освобождаю тебя от твоего крестного целования, что давал ты Шемяке в Угличе. Все грехи твои, и этот грех тяжелый, беру на себя. И если Господь захочет покарать тебя за клятвопреступление, пусть карает меня. Но, может, услышит Господь мои долгие молитвы, может, дойдут до него слова мои искренние, ибо не для себя, не для обители, не для тебя, великого князя, беру я на душу грехи твои. Для земли Русской, для мира и покоя в ней! А теперь иди, иди в храм! Я буду следом. Вместе литургию послушаем, вместе Господу помолимся!
— Если сподобит Бог снова оказаться на великом столе, не забуду я тебя, отче! — тихо и торжественно, как клятву, произнес Василий Васильевич.
Игумен отворил дверь, и тут же прыткий слуга подставил плечо под руку великого князя. Ничего больше не говоря, Василий вышел из кельи, и вся свита великого князя отправилась к храму.
Когда затворилась дверь кельи, игумен снова опустился на колени перед святыми иконами и, горячо молясь, просил Спасителя о самом главном:
— ...вкорени в них страх Твой, и друг ко другу любовь утверди: угаси всякую распрю, отыми все разногласия и соблазны, Яко Ты есть мир наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
СНОВА НА ВЕЛИКОМ СТОЛЕ
(Из русских летописей)
Пробыв недолгое время на Белоозере, пошел великий князь прочь, и тут к нему стали прибывать многие люди русские. Князь же великий не возвратился к Вологде, а пошел к Твери, договорившись с великим князем Тверским Борисом Александровичем. Когда Василий Васильевич пришел в Тверь, князь великий Тверской дал ему у себя отдохнуть, и честь великую воздал ему, и принес дары многие.
Князь же великий Василий Васильевич обручил тогда за своего большего сына князя Ивана дочь великого князя Тверского Марию, а было князю Ивану семь лет. В Тверь стали собираться и многие бояре со многими своими людьми. Князь же Василий Ярославич, который бежал в Литву, не ведал о том, что князь Дмитрий Шемяка выпустил великого князя из пленения. Оставив жену и детей в Литовской земле, Василий Ярославич и другие бояре задумали идти искать великого князя, чтобы вызволить его из плена. Договорились они все встретиться в Литовской волости в Пацине и оттуда идти на Русь. Князь Василий Ярославич был тогда в Мстиславле, а с ним трое Ряполовских, да князь Иван Стрига, да Ощера, и иные многие дети боярские. А князь Семен Оболенский да Федор Басенок сидели в Брянске.
Не успели они еще выйти из земли Литовской, как пришла весть к князю Василию в Мстиславль, что великий князь выпущен и дана ему Вологда. Принес ту весть Данило Башмак. В Брянск к князю Семену прибыл некто Кианин (киевлянин), Пол-тинкою зовут, а из Брянска погнал к Киеву, и там всем рассказал радостную весть. Князь Василий Ярославич со всеми боярами и всеми людьми, и с женами, и детьми двинулись в путь из Мстиславля; из Брянска пошел князь Семен да Басенок тоже со всеми, и сошлись они в Пацине. Тут узнали они, что князь великий пошел из Вологды к Белуозеру, а оттуда к Твери. Они тоже двинулись в ту сторону.
Когда же пришли в Елну, встретились им татары. Стали стрелять друг в друга. Потом татары начали русских кликати: «Кто вы есть и откуда?» Они же отвечали: «Мы москвичи, а идем с князем Василием Ярославичем искать своего государя, великого князя Василия Васильевича; сказывают, его уже выпустили. А вы есть кто?» Татары же сказали: «А мы пришли из Черкас с двумя царевичами, детьми Махметевыми, с Касымом и Ягупом. Слышали они про великого князя, что братья над ним учинили, и пошли тоже искать великого князя за прежнее его добро и за его хлеб, ибо много от него добра видели мы».
Князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский стояли тогда на Волоке. Князь великий в ту пору послал изгоном боярина своего Михаила Борисовича Плещеева с малым числом людей, чтобы было им легче проскочить мимо рати князя Дмитрия. Проскочили они мимо войска Шемякиного, никем не замеченные, и пришли к Москве ночью перед Рождеством Христовым. В самую заутреню подошли к Никольским воротам, а в ту пору ехала в город к заутрене княгиня Ульяна, вдова князя Василия, сына Владимира Андреевича Серпуховского. Отворили ей врата, а боярин Плещеев со своими людьми тот час и вошел в город. Наместник князя Дмитрия Федор Галичский из церкви от заутрени убежал, а наместника князя Ивана, некоего Василия Чешиху, скачущего из града на коне, поймал истопник великой княгини, Ростопчею звали. Привел его к воеводам, тут же его и оковали. Прочих же людей князя Дмитрия и Ивана Можайского, поймав, грабили и сажали в оковы. Горожан же привели к целованию креста за великого князя Василия Васильевича, а град начали крепить.
Великий князь пошел к Волоку на Шемяку и на Можайского, и собралась у него великая сила воинов. Недруги же в недоумении были: то от Твери на них князь великий идет, то пришла весть, что царевичи татарские движутся да князь Василий Яросла-вич со многою силою; то услышали, что Москва уже взята, и от них люди все переходят на сторону великого князя. Побежали они сами к Галичу, а оттуда на Чухлому, и там, взяв с собою мать великого князя, великую княгиню Софью, побежали дальше на Каргополь.
Князь великий пошел за ними, а княгиню свою Марию отпустил к Москве, достигнув Углича, стал он под городом. Пришел тут к нему князь Василий Ярославич, и с ним бояре многие великого князя, о которых говорилось ранее. С боем взяли город Углич, и убит был тогда под городом Литвин храбрый человек Юшко Драница.
Оттуда пошел великий князь к Ярославлю, и тут присоединились к нему царевичи Касым и Ягуп. Из Ярославля послал великий князь к князю Дмитрию боярина Василия Федоровича Кутузова, прося у него свою мать, великую княгиню Софью, и так говорил: «Брат князь Дмитрий Юрьевич, какая тебе честь и хвала, что держишь у себя в плену мать мою, а свою тетку? Чем хочешь мне мстить? Я уже на своем великом столе, на великом княжении».
Отпустив Кутузова, пошел назад к Москве, пришел в стольный град и сел на великокняжеский стол.
(Из русских летописей)
Пробыв недолгое время на Белоозере, пошел великий князь прочь, и тут к нему стали прибывать многие люди русские. Князь же великий не возвратился к Вологде, а пошел к Твери, договорившись с великим князем Тверским Борисом Александровичем. Когда Василий Васильевич пришел в Тверь, князь великий Тверской дал ему у себя отдохнуть, и честь великую воздал ему, и принес дары многие.
Князь же великий Василий Васильевич обручил тогда за своего большего сына князя Ивана дочь великого князя Тверского Марию, а было князю Ивану семь лет. В Тверь стали собираться и многие бояре со многими своими людьми. Князь же Василий Ярославич, который бежал в Литву, не ведал о том, что князь Дмитрий Шемяка выпустил великого князя из пленения. Оставив жену и детей в Литовской земле, Василий Ярославич и другие бояре задумали идти искать великого князя, чтобы вызволить его из плена. Договорились они все встретиться в Литовской волости в Пацине и оттуда идти на Русь. Князь Василий Ярославич был тогда в Мстиславле, а с ним трое Ряполовских, да князь Иван Стрига, да Ощера, и иные многие дети боярские. А князь Семен Оболенский да Федор Басенок сидели в Брянске.
Не успели они еще выйти из земли Литовской, как пришла весть к князю Василию в Мстиславль, что великий князь выпущен и дана ему Вологда. Принес ту весть Данило Башмак. В Брянск к князю Семену прибыл некто Кианин (киевлянин), Пол-тинкою зовут, а из Брянска погнал к Киеву, и там всем рассказал радостную весть. Князь Василий Ярославич со всеми боярами и всеми людьми, и с женами, и детьми двинулись в путь из Мстиславля; из Брянска пошел князь Семен да Басенок тоже со всеми, и сошлись они в Пацине. Тут узнали они, что князь великий пошел из Вологды к Белуозеру, а оттуда к Твери. Они тоже двинулись в ту сторону.
Когда же пришли в Елну, встретились им татары. Стали стрелять друг в друга. Потом татары начали русских кликати: «Кто вы есть и откуда?» Они же отвечали: «Мы москвичи, а идем с князем Василием Ярославичем искать своего государя, великого князя Василия Васильевича; сказывают, его уже выпустили. А вы есть кто?» Татары же сказали: «А мы пришли из Черкас с двумя царевичами, детьми Махметевыми, с Касымом и Ягупом. Слышали они про великого князя, что братья над ним учинили, и пошли тоже искать великого князя за прежнее его добро и за его хлеб, ибо много от него добра видели мы».
Князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский стояли тогда на Волоке. Князь великий в ту пору послал изгоном боярина своего Михаила Борисовича Плещеева с малым числом людей, чтобы было им легче проскочить мимо рати князя Дмитрия. Проскочили они мимо войска Шемякиного, никем не замеченные, и пришли к Москве ночью перед Рождеством Христовым. В самую заутреню подошли к Никольским воротам, а в ту пору ехала в город к заутрене княгиня Ульяна, вдова князя Василия, сына Владимира Андреевича Серпуховского. Отворили ей врата, а боярин Плещеев со своими людьми тот час и вошел в город. Наместник князя Дмитрия Федор Галичский из церкви от заутрени убежал, а наместника князя Ивана, некоего Василия Чешиху, скачущего из града на коне, поймал истопник великой княгини, Ростопчею звали. Привел его к воеводам, тут же его и оковали. Прочих же людей князя Дмитрия и Ивана Можайского, поймав, грабили и сажали в оковы. Горожан же привели к целованию креста за великого князя Василия Васильевича, а град начали крепить.
Великий князь пошел к Волоку на Шемяку и на Можайского, и собралась у него великая сила воинов. Недруги же в недоумении были: то от Твери на них князь великий идет, то пришла весть, что царевичи татарские движутся да князь Василий Яросла-вич со многою силою; то услышали, что Москва уже взята, и от них люди все переходят на сторону великого князя. Побежали они сами к Галичу, а оттуда на Чухлому, и там, взяв с собою мать великого князя, великую княгиню Софью, побежали дальше на Каргополь.
Князь великий пошел за ними, а княгиню свою Марию отпустил к Москве, достигнув Углича, стал он под городом. Пришел тут к нему князь Василий Ярославич, и с ним бояре многие великого князя, о которых говорилось ранее. С боем взяли город Углич, и убит был тогда под городом Литвин храбрый человек Юшко Драница.
Оттуда пошел великий князь к Ярославлю, и тут присоединились к нему царевичи Касым и Ягуп. Из Ярославля послал великий князь к князю Дмитрию боярина Василия Федоровича Кутузова, прося у него свою мать, великую княгиню Софью, и так говорил: «Брат князь Дмитрий Юрьевич, какая тебе честь и хвала, что держишь у себя в плену мать мою, а свою тетку? Чем хочешь мне мстить? Я уже на своем великом столе, на великом княжении».
Отпустив Кутузова, пошел назад к Москве, пришел в стольный град и сел на великокняжеский стол.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЗОВЕТ
Зима началась с морозов. Первый снег пал на сухую, промерзшую уже землю и больше не сходил. Не было слякоти, долгих осенних дождей и пропитанной бесконечной водой земли. Уже в октябре запахло морозцем, как-то незаметно оголились деревья и стояли жалкие, сиротливые.
Однажды по морозцу из стольного града Москвы прискакали в Ферапонтов монастырь гонцы от самого великого князя.
Дул сильный ветер. Послы, ехавшие верхами, промерзли в дороге, потому приняли их в теплой трапезной, угостили горячим медовым сбитнем, а потом уж стали расспрашивать о новостях. Впрочем, главная новость была одна: велел великий князь отцу Мартиниану передать дела свои игуменские достойнейшему из монахов, а самому быстро собираться и ехать в стольный град, благо путь зимний уже установился.
Схитрил великий князь, не написал о том, что умыслил, а слуги оказались не болтливы, ничего не добавили к княжескому посланию. Может, конечно, и сами ничего не знали.
Обитель заволновалась. Двенадцать лет стоял блаженный Мартиниан во главе иноков. Оставил монастырь на Воже-озере, сдался перед великими просьбами здешних монахов. И вот теперь, когда все стало своим, родным, обустроенным, приходилось расставаться. А ведь только жизнь пошла ровная, размеренная, так что к Господу обращались с чистой душой, не обремененной различными мирскими заботами. Не то чтобы их не было вовсе, просто стали они привычными. И братия была своя, спокойная, почтительная. Устав строго соблюдался, и зависть, корысть, злословие обходили обитель стороной. С игуменом никто не спорил, послушания выполняли безропотно, наказания сносили с благодарностью, как дети от отца. Словом, покой и молитва царили в обители, и жаль было покидать это благословенное место, где все вместе и поврозь обращались к Господу Богу и надеялись, что он услышит негромкий голос небольшого северного монастыря.
Мартиниан. собрался быстро: гонцы торопили. Оставил дела на келаря и толкового инока, поручил монахам искать себе игумена и с ним явиться к князю, взял с собой Евангелие, которое сам же и переписывал еще в обители преподобного Кирилла, и три иконы: Спасителя, Богоматери-Одигитрии да икону отца и учителя Кирилла Белозерского, сделанную умелым иконописцем с образа Кирилла, что был написан Дионисием Глушицким и стоял у гроба святого.
Утро, когда назначили отъезд, выдалось серым, насупленным. Воздух от мороза так загустел, что, казалось, его можно пощупать. Из лошадиных ноздрей валил пар, будто из хорошей печной трубы. Бледное солнце едва поднялось над верхушками темных елей, когда от ворот Ферапонтова монастыря отъехали сани с крытым верхом, запряженные двумя гнедыми жеребцами. Отдохнувшие за ночь, хорошо покормленные кони сразу рванули вперед, и возница, тоже бодрый от утреннего мороза, от белой чистой благодати вокруг, от неяркого светила, медленно начинающего свои дневной круг, тихо прикрикнул: «Но, балуй!»
У монастырских ворот осталась черная толпа: это иноки вышли проводить своего игумена. В чистом воздухе печально звенело тихое монашеское пение.
Далека дорога от утонувшего в снегах Ферапонтова монастыря до Москвы. Несутся по узкой снежной дороге крытые сани. Верх то завалит снегом, то очистит ветром. На сиденьи внутри — шкура медвежья, ноги тулупом укутаны. Дремлет отец Мартиниан, о Москве думает, о великом князе, об оставленной обители.
А как стали приближаться к Кириллову, все мысли разом занял преподобный отец и учитель Кирилл. Вспомнилось, как мальчонкой Михаилом Мартиниан с отцом пришел в славную обитель, как впервые увидел доброго игумена, как пал пред ним на колени и повторял только одно: «Возьми меня, господине, к себе».
Сейчас вот думалось: почему так захотелось маленькому деревенскому пареньку в монастырь? Почему решил уйти от мира? Почему так тянуло за эти крепкие стены, в высокий храм, где и воздух, казалось, совсем иной? Почему с таким недетским благоговением глядел на святые образа, почему готов был слушать тихое монашеское пение и стоять неподвижно на молитвах, хотя какие дети это могут?
Не было у отца Мартиниана ответов на эти вопросы, но в памяти всплыли рассказы двух странников, зашедших однажды в деревню. Один был особенно приметным: черный, носатый, заросший густой бородой. Маленький Михаил так и сказал брату: «Смотри, чистый ворон!» Странник услышал, но не обиделся. Напротив, подтвердил: «Точно, Вран мое прозвание. А по имени зовут Авксентием!» Попросились прохожие переночевать, их и пустили. Зима, а на печке тепло, коптил светец, пахло животными: из-за холодов маленького теленка и кур держали в дому. А Вран рассказывал про чудного старца Кирилла, что раньше жил далеко-далеко, аж в самом стольном граде Москве, а теперь вот прибыл сюда к ним и поселился на берегу Сиверского озера. Чудеса с ним происходили разные, потому как не простой это был старец. Поведал Вран, как однажды проходили они с товарищем по дикому лесу и нашли там инока. Удивились его пустынному житию, столь трудному и жестокому. Остались на время с ним, внимали его боговдохновенному слову. Потом начали приходить часто, приносить самое необходимое: ничего ведь не было у старца одинокого. А сами слушали его поучения, вдохновлялись ими на праведное житие и разносили по краю весть о необыкновенном пустыннике.
Не иначе, как сам Бог и Его Пречистая Матерь хранили того дивного старца. Иначе как объяснить такие случаи... Вот, например, шли они по местам вокруг обители, и вдруг враг изобрел такую кознь: навел попущением Божиим на старца тяжелый сон. Не мог Кирилл идти дальше, сморился. Сказал: «Вы ступайте, а я посплю». Спутники ему ответили: «Отче, иди в келью и там поспи». Он же никак не мог. Лег на землю, заснул. Потом сам рассказывал, что вдруг страшный голос разбудил его: «Беги, Кирилл, беги!» В ужасе отбежал старец от этого места, и тот же час упало туда, где лежал, огромное дерево. Помолился инок Спасителю и Богоматери, а потом многие дни и ночи без сна проводил. Ночью стоял на молитве, днем трудился — лес вырубал, расчищал место и огнем палил... Однажды так запылало все кругом, что сквозь дым и пламя, ничего не было видно. Куда и бежать — не знали. Обратился Кирилл к скоропомощнице — Пречистой Деве, и вдруг явился кто-то, взял его за руку и вывел из огня, так что старец не пострадал.
И еще рассказывал Авксентий Вран, что задолго до того, как пришел сюда Кирилл, на месте, где он поселился, слышали проходящие люди звуки колокола и дивное пение. Видно, место то издавна было любо Богородице. Вот и выбрала Она блаженного старца из стольного града, чтобы основал здесь святую обитель. Ведь не по своей воле он пришел в северные края. Сама Пресвятая Богородица путь ему указала.
Молился как-то благоверный игумен в своей келье в Симоновом монастыре. Просил Пречистую Деву Марию, чтобы наставила его, показала путь, которым надо идти, указала бы место, удобное для спасения. И вот когда преподобный Кирилл запел по обычаю акафист Божьей Матери, вдруг услышал он дивный голос за стенами кельи, с высоты говорящий: «Кирилл, уйди отсюда. Иди на Белое озеро... Там найдешь покой, там тебе уготовано место, в котором спасешься».
Отворил преподобный оконце и увидел свет великий, сияющий на небе, в северной стороне, где должно быть Белое озеро. Лучом, словно перстом, указывалось ему, где поселиться. Застыл Кирилл и воочию увидел то самое место, словно оно находилось рядом.
После этого чудесного видения пошел блаженный Кирилл вместе со своим духовным братом Ферапонтом на Белое озеро. Много земель исходили они, все искали пустынное место, указанное игумену в видении, пока не нашли то, где теперь монастырь стоит. Было тогда авве Кириллу шестьдесят лет, и еще тридцать пребывал он в новой обители. Началась она с небольшой кельи, вырытой в холме, да креста, вкопанного в землю. Теперь разросся монастырь. Славен он храмом Пречистой Богородицы в честь Ее Успения да именем преподобного Кирилла, которому дарована была способность к чудотворениям за его праведную, преславную жизнь и великую веру.
А блаженный Ферапонт, духовный брат Кирилла, пожив с ним немного, решил отойти в другое место, верст на пятнадцать. Получил он благословение святого старца и ушел. Выбрал место угодное, основал монастырь, который стал называться Ферапонтовым, и устроил там церковь во имя Рождества Богородицы.
После этих рассказов, услышанных от Авксентия Врана, и стал мечтать мальчик Михаил из крестьянской семьи, что жила в деревне Березняки, о служении Господу Богу и Его Пречистой Матери. Отец ругался, мать плакала, да никакие уговоры не помогали. Ушел отрок в Кириллову обитель, читать - писать выучился, игумен сам постриг его в иноки и оставил при своей келье, чтобы самому следить за новоначальным монахом.
...В Кирилловой монастыре остановились ненадолго. Увидел отец Мартиниан стены обители — и сердце сжалось, будто пришел к отчему дому, где не был много лет. Снег стоял высокий, и деревянное заграждение обители, крепко сбитое из толстых стволов, казалось невысоким и ненадежным. Да и храм Успения Пресвятой Девы Марии словно утонул в снегу, хотя старательные монахи чистили монастырский двор. Постарела церковь, потемнела, только осиновые лемеха на куполах серебрились от неярких солнечных лучей да деревянный крест темнел на светлом небе.
Монастырские служки, стоящие у ворот, сообщили Мартиниану, что игумен Трифон уже отъехал в Москву, ибо звал его великий князь к себе в стольный град за духовным советом.
Отец Мартиниан поклонился гробу преподобного старца Кирилла, прочел теплые молитвы и попросил отца и учителя быть ему наставником и защитником на новом пути. Над мощами преподобного уже была устроена рака, рядом с которой находился образ Богоматери. Здесь же стоял и образ самого Кирилла, где он был изображен за несколько лет до смерти: маленький, худой, большеголовый. Игумен Дионисий, основавший монастырь на реке Глушице, вытекавшей из Кубенского озера, пришел в Кириллову обитель помолиться и пообщаться с прославленным старцем. А поскольку силен был в живописи — создал икону игумена, которого уже и тогда называли преподобным. Кирилл велел убрать образ подальше и никогда не прикасаться к нему. Достали его позже, после кончины блаженного, и установили над гробом.
Икона потемнела, закоптилась. Но лик, видно, чем-то чистили: был он светел, и прозрачные глаза, из которых так часто текли омывающие душу слезы умаления, смотрели на приходящих по-доброму внимательно.
— Благослови, отче, на долгую дорогу, на разлуку,— шептал Мартиниан.— Будь со мной всегда, чтобы чувствовал я твою заботу. А ты в моей душе навеки. Господу Богу нашему, Пречистой Его Матери и тебе, отче, предаю я душу свою. Будь мне по-прежнему наставником и учителем, и если что не так сделаю — направь и наставь меня своей доброй рукой...
Отец Мартиниан приложился к иконе еще раз, заглянул в глаза преподобного старца и вышел из храма.
Неспокойно было у него на душе. Что сулит стольный град — неведомо, что прикажет великий князь — непонятно, лучше ли будет, хуже ли — поди угадай... Со смущенным сердцем поклонился святой обители Мартиниан, приложился ко всем святым образам, перекрестился на купол собора и снова тронулся в путь.
Пока ехали до стольного града, то солнце слепило глаза, отражаясь в каждой льдинке на плотном белом снегу, то вдруг набегали облака — и серело все кругом. Белоснежное покрывало земли начинало казаться каким-то грязным, а на поворотах виделась лежащая впереди дорога, помеченная темным конским навозом и усеянная стаями птиц.
В голове то светлело, то темнело. Вертелись картины той далекой поры, когда жил в келье игумена Кирилла, когда наставлял его мудрый старец в иноческом житии, заставлял переписывать книги и читать их помногу в келье и трапезной. Вспоминал Мартиниан, как работал на поварне и в хлебне, как ездили в лес пилить на зиму огромные деревья, как ходили по грибы, ягоды, орехи, ловили рыбу и собирали мед. Все пригодилось впоследствии, в одинокой жизни на Воже-озере, да и в настоятельстве; сам через все прошел, сам все сомнения и страхования монашеские изведал, сам всему выучился, так что мог теперь и других учить, и спрашивать с них. А более всего благодарен был иеромонах игумену Кириллу за то, что научил переносить трудности иноческой жизни, считая за радость и долгие-долгие моления, и короткий урывками сон, и тяжелую работу, и нелегкие часы за перепиской книг... Еще научил преподобный Кирилл находить покой в немом затворе, в одинокой жизни вдали от людей и чувствовать душой связь с Богом, с Его Пречистой Матерью и святыми угодниками, просиявшими в мире и в родной Русской земле. С тех пор полюбил Мартиниан ночные моления. Не весенние, когда взбудоражена вся природа, не летние, когда теплый ночной воздух одуряюще ароматен, и даже не осенние, когда запах прелой листвы говорит о том, что земля готовится к зимнему сну. Больше всего любил игумен холодные чистые зимние ночи, когда воздух так прозрачен, что кажется, будто и звезды где-то совсем рядом, и луна такая белая, серебряная, что если заденет ее крылом ангел — то зазвенит... В такие ночи представлял себе инок неведомого и невообразимого Бога, который где-то там, на небесах, слушал молитвы смиренного монаха и внимал им. Тогда связь между человеком, ничтожной песчинкой в Божьем мире, и всемогущим Повелителем и Господином становилась ощутимой, реальной. Именно в одну из таких ночей, молившись у келейных образов, имел Мартиниан дерзость обратиться к Всевышнему с беспокоящим его вопросом: ну как вспомнит великий князь о северном игумене да пришлет за ним, ехать ли по зову или остаться здесь, на месте? Просил игумен Всевышнего дать хоть какой-то знак, чтобы понял он, что там, наверху, его услышали. Долго молился грешный инок, пока не глянул в маленькое оконце и не увидел на небе яркую звезду, которой раньше не замечал. Может, воздух был особенно прозрачен в эту ночь, может, в келье темнее, чем обычно, может, долее всегдашнего молился свя-щенноинок, и свод небесный повернулся так, что звезда светила прямо в окошко. Кто знает... Но Мартиниан принял и понял этот знак свыше и возблагодарил Господа за то, что тот услышал его, недостойного, и соблаговолил доказать свою милость. И чувствовал в эту ночь Мартиниан, что протягивается от Всемогущего Создателя к нему, малому и грешному, пылинке в огромном непознаваемом океане бытия, тонкая-тонкая нить, что Благодать Божия распространяется и на него. Парил он душой в неведомом пространстве, ощущая присутствие Бога на земле, и верил, что Господь любит и слышит людей.
К Москве подъезжали за полдень. Еще издали увидел отец Мартиниан белые каменные стены и башни Кремля, горделиво возвышавшиеся на голубоватом снегу и таком же нежном голубоватом небе.
— Не бывал в стольном граде, отче? — спросил возница.
— Не приходилось,— ответил Мартиниан,— Мы белозерские...
— Ну, так покажу я тебе Кремль наш, чтобы запомнился!
Возница направил лошадь куда-то в сторону, и вскоре остановился на небольшом взгорье. Кругом было свободно, чисто и как-то празднично: дома скрылись в ложбине, прозрачные деревья и кусты не мешали смотреть вокруг, да и не было их в том месте, откуда надо было взирать на Кремль.
Прекрасна была Москва при этом зимнем раннем закате! Небольшие деревянные дома, почти не видные под белыми, покрытыми снегом крышами, прятались в сугробах. Зато храмы, с которых снег сдувало ветром, высились и здесь, и там, их купола с крестами притягивали к себе взор, удивляя своим обилием и теплым сиянием в золотых лучах заходящего солнца.
Мартиниан, который видел раньше только небольшие северные города да монастыри, сказал, пытаясь сохранить душевный покой и то созерцательное настроение, которое воспитывал в себе с детства:
— Велик сей град и прекрасен!
— На то он и стольный,— весело откликнулся возница и похвастался: — Нигде столько храмов Бо-жиих не отыщешь! А раньше здесь бор сосновый шумел, вот и называется холм Боровицким...
Они въехали в Кремль через Фроловские ворота, миновав по мосту глубокий ров. Вблизи кремлевские стены уже не казались такими гордыми и прочными: сильно пострадали они от татарских нашествий и пожаров. Восемьдесят лет назад построил их князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, побивший татар на поле Куликовом. Но и татары потом много били русских, жгли Москву и разоряли ее. Каменные стены хранили следы этих боев и пожарищ, хоть и чинили их, и заплаты клали, и красили. Кое-где стены уже рушились, осыпались, и черные пятна от огня были словно заживающие раны, покрытые коростой.
Зазвонили колокола — кончилась служба. Звон несся со всех сторон, особенный, трогающий душу, чистый в чистых зимних сумерках.
— Рука Божия над градом сим,— сказал Мартиниан.
Возница остановил коня сразу за воротами, где располагался монастырь.
— Зайдешь, отче, в Чудов?
Эти слова напомнили отцу Мартиниану рассказы аввы Кирилла о митрополите Алексии: день его пре-стаатения, 12 февраля, всегда отмечался в обители. В сей праздник в назидание инокам рассказывал игумен житие святого Алексия. Тогда-то и узнал Мартиниан, что слава о русском святителе еще при его жизни шла по многим странам. Когда же у татарского властителя Джанибека вдруг ослепла жена Тайдулла, обратился хан к великому князю Московскому с просьбой прислать человека Божия Алексия, ибо известно стало хану, что Бог творит чудеса по его молитвам. Пришлось Алексию ехать в Орду. Перед отъездом во время молебна, который совершался в Успенском соборе, вдруг сама собой зажглась свечка у гроба святого чудотворца Петра. Взял митрополит с собой немного воска от той свечи, и когда начал молебствования у ложа ханской царицы, зажег эту малую свечку. Окропил Алексий Тайдуллу святой водой, долго воссылал молитвы Господу и Его Пресвятой Матери, и ханша прозрела. Дивились все столь славному чуду, а когда уезжал Алексий от хана, тот наградил святителя щедрыми дарами и проводил с великою честью.
Многое попечение имел святой митрополит о жизни иноческом. По его слову возник на берегу реки Яузы монастырь, игуменом которого стал инок Троицкой обители Андроник, ученик преподобного Сергия.
А в Московском Кремле построил преподобный Алексии монастырь в честь чуда святого архистратига Михаила в Хонех. Это дивное событие произошло в IV веке во Фригии, где близ одного целебного источника стоял храм святого архангела Михаила. Язычники хотели разрушить его. Соединили два горных потока в один и направили его на храм. Некий старец Архипп, живший при церкви, стал молиться святому Михаилу. Явился крылатый архистратиг, ударил жезлом по камню, и в образовавшуюся расщелину хлынули воды, которые должны были разрушить храм.
Монастырь, поставленный в Московском Кремле, напоминал людям о чуде архангела Михаила и о чуде, свершенном митрополитом Алексием с ослепший ханской женой. Здесь же, в Чудове, святитель был погребен после своей смерти.
Отец Мартиниан перекрестился на главы монастырской церкви.
— Прости меня, великий святитель, что не могу ныне помолиться у твоего гроба. Не оставлю тебя вниманием, приду поклониться святым мощам. А сейчас не осуди меня, грешного, великий князь ждет.
Сани снова, теперь уже не спеша, поехали по кремлевскому взгорью.
У Вознесенского монастыря стояла неоконченная каменная церковь.
— Почто разрушаются эти каменные столбы? — спросил отец Мартиниан.
— Да княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, после смерти мужа основала здесь монастырь, назвала Вознесенским. Сама заложила каменную церковь, а построить не успела. Так вот и стоит всё...
Строить некому. У нас ведь как: то великий князь — Василий Васильевич, то его дядя князь Юрий, то брат Василий Косой, то другой брат Дмитрий Ше-мяка... Чтобы церкви строить, покой в землях нужен... Теперь Шемяка-то бежал, снова Василий Васильевич на великом княжении. Хоть и слепец он, а дай-то Бог, чтобы мирно правил до конца дней своих, да чтобы конец тот случился не скоро!
— Дай Бог,— повторил Мартиниан, удивляясь про себя разумности суждений возницы.
На площади перед Успенским собором белозерский игумен встал на колени и трижды коснулся челом земли, покрытой снегом: он склонялся ниц перед святыней Русской земли, главным храмом, построенным еще при святом митрополите Петре. Теперь в этом Доме Пресвятой Богородицы находились и мощи преподобного старца; он сам завещал похоронить себя здесь.
Замолчали колокола, возвещавшие конец службы. Народ шел из церкви, разноцветная толпа напоминала летнее луговое цветение.
Отец Мартиниан вошел в собор, когда свечи еще не погасли и в храме было светло, но уже малолюдно. Игумен поставил свечку к иконе Христа Спасителя, по обычаю находящейся справа от Царских врат, приложился к храмовому образу Успения Божьей Матери, написанному святым митрополитом Петром, и особенно долго молился перед известной всей Руси Владимирской иконой Богоматери.
Много в Русской земле чудотворных икон, на многих из них запечатлен образ Пресвятой Девы Марии то с Младенцем Иисусом Христом, то без Него, но Владимирская икона, перед которой склонил колени отец Мартиниан, была особенной. Сам святой евангелист Лука, врач и живописец, запечатлел Пречистую Деву еще при жизни Ее и получив благословение Богородицы. Написал он несколько икон, но эта, где Богоматерь и Младенец Иисус прильнули друг к другу в порыве нежности, почиталась на Руси как никакая другая. Овеянная именем евангелиста Луки, прибыла она в Киев еще до Юрия Долгорукого, прибыла из самого Царьграда, из Византии, колыбели православия. Обитала икона в Вышеградском женском монастыре, недалеко от Киева, и была известна своими чудесами: сама собой сходила со стены и висела в воздухе, словно собиралась оставить здешние места и тронуться в далекие края...
Пришло время, когда Юрий Долгорукий стал великим князем на киевском столе, а своего сына, Андрея Боголюбского, посадил недалеко от себя, в Вы-ш городе.
Андрей же рвался в родные суздальские места и однажды тайком от отца собрался уйти из Киева, взяв с собой в качестве покровительницы икону Богоматери.
Придя в обитель и увидев образ, на который ему указали, князь склонился до земли и сказал: «О Пресвятая Богородица, мать Христа Бога нашего! Если хочешь быть мне заступницей в пути моем на Ростовскую землю, посетить со мной новопросвещенные народы, пусть по твоей воле так и будет... Будь мне, грешному и малому, защитницей в новом трудном деле... Не оставь меня на пути моем».
Много чудес было от этой иконы. В самые трудные минуты молились и князь, и его спутники перед этим образом, и помогала им заступница-Богородица: то спасла проводника на коне, который начал тонуть в бурной реке, то уберегла жену попа Микулы от взбесившейся лошади, то помогла больной беременной княгине родить здоровое дитя и самой поправиться.
Князь Андрей Боголюбский чрезвычайно почитал эту византийскую икону и построил для нее во Владимире большой каменный собор в честь Успения Божьей Матери. Украсил его дивно и саму икону убрал в золотой оклад с драгоценными камнями и жемчугом.
А во времена Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского и отца нынешнего великого князя, спасла Богоматерь град Москву от татар, ибо принесли на защиту города из Владимира чудотворную икону, поставленную там Андреем Боголюбским.
Тогда шел на Русь враг могучий и страшный — нечестивый воитель Тимур, иначе прозываемый Тамерланом. Ужас охватил всех: ожидали смертей, пожаров и полона. Церкви были открыты с раннего утра до глубокой ночи, горожане молились, пред алтарями лились слезы.
Вот тогда-то вспомнил великий князь Василий Дмитриевич о чудотворной Владимирской иконе Богоматери, которая уже не раз помогала в трудную минуту. Чудный образ взяли во Владимире, понесли в Москву, и прибыла она в стольный град 26 августа 1395 года. Встречали икону на поле, далеко от городских стен. Вышли на эту встречу священники и бояре, князья и простые люди, женщины и дети, нищие и калеки. Киприан-митрополит принял икону на руки свои и со крестами и другими святынями, с пением и свечами принесли ее во град, торжественно внесли в Успенский собор и поставили у Царских врат, продолжая молитвенное служение. Перед чудным образом просили люди Божью Матерь о заступлении, о покровительстве, о чуде. И чудо свершилось. В ночь на 26 августа, когда икона прибыла к Москве, увидел злочестивый царь Тимур страшный сон: перед ним была гора высокая, с горы шли чуждые ему святители с золотыми жезлами в руках, а над ними в воздухе стояла жена в багряных ризах со множеством воинства. Объяснили Тимуру его приближенные, что видел он русских святых и саму Богородицу, которая встала на защиту стольного града Москвы.
Испугался Тимур и ушел от города. А государь повелел на древнем Кучковом поле, на том месте, где встречали чудотворную святыню, поставить храм Богоматери с монастырем, названным Сретенским,— в честь торжественной встречи Владимирской иконы Божьей Матери, оградившей Москву от врага.
С того времени стала Владимирская икона главной святыней русских земель. Всякий, приходящий в стольный град, склонялся перед этим образом; Успенский собор стали называть Домом Богоматери и считали Пресвятую Деву Марию защитницей и покровительницей города.
От святой чудотворной иконы пошел отец Мартиниан в северный придел собора, где хранились мощи митрополита Петра. И здесь белозерский игумен долго и основательно молился у гроба святителя, первым предрекшего славу небольшому городу, которому суждено было стать стольным градом земли Русской. Именно святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и посоветовал князю Ивану Даниловичу, внуку Дмитрия Донского, сыну Даниила Московского, построить в Москве каменную церковь в честь Божией Матери. «Если создашь ты храм Пресвятой Богородицы,— говорил владыка, — то и сам прославишься, и город твой будет больше других прославлен, и святители поживут в нем, и руки твои взыдут на врагов, и Бог в нем будет прославлен, и кости мои тут положены будут».
Послушался митрополита князь Иван Данилович, начал строить каменный собор, и святой Петр-митрополит своими руками устроил себе гробницу близ жертвенника в этом храме. В нее и был положен, когда настал час его свидания с Богом. С тех пор знаменовались у гроба святителя князья и бояре, и весь народ почитал нового святого Русской земли.
(продолжение ниже)
Зима началась с морозов. Первый снег пал на сухую, промерзшую уже землю и больше не сходил. Не было слякоти, долгих осенних дождей и пропитанной бесконечной водой земли. Уже в октябре запахло морозцем, как-то незаметно оголились деревья и стояли жалкие, сиротливые.
Однажды по морозцу из стольного града Москвы прискакали в Ферапонтов монастырь гонцы от самого великого князя.
Дул сильный ветер. Послы, ехавшие верхами, промерзли в дороге, потому приняли их в теплой трапезной, угостили горячим медовым сбитнем, а потом уж стали расспрашивать о новостях. Впрочем, главная новость была одна: велел великий князь отцу Мартиниану передать дела свои игуменские достойнейшему из монахов, а самому быстро собираться и ехать в стольный град, благо путь зимний уже установился.
Схитрил великий князь, не написал о том, что умыслил, а слуги оказались не болтливы, ничего не добавили к княжескому посланию. Может, конечно, и сами ничего не знали.
Обитель заволновалась. Двенадцать лет стоял блаженный Мартиниан во главе иноков. Оставил монастырь на Воже-озере, сдался перед великими просьбами здешних монахов. И вот теперь, когда все стало своим, родным, обустроенным, приходилось расставаться. А ведь только жизнь пошла ровная, размеренная, так что к Господу обращались с чистой душой, не обремененной различными мирскими заботами. Не то чтобы их не было вовсе, просто стали они привычными. И братия была своя, спокойная, почтительная. Устав строго соблюдался, и зависть, корысть, злословие обходили обитель стороной. С игуменом никто не спорил, послушания выполняли безропотно, наказания сносили с благодарностью, как дети от отца. Словом, покой и молитва царили в обители, и жаль было покидать это благословенное место, где все вместе и поврозь обращались к Господу Богу и надеялись, что он услышит негромкий голос небольшого северного монастыря.
Мартиниан. собрался быстро: гонцы торопили. Оставил дела на келаря и толкового инока, поручил монахам искать себе игумена и с ним явиться к князю, взял с собой Евангелие, которое сам же и переписывал еще в обители преподобного Кирилла, и три иконы: Спасителя, Богоматери-Одигитрии да икону отца и учителя Кирилла Белозерского, сделанную умелым иконописцем с образа Кирилла, что был написан Дионисием Глушицким и стоял у гроба святого.
Утро, когда назначили отъезд, выдалось серым, насупленным. Воздух от мороза так загустел, что, казалось, его можно пощупать. Из лошадиных ноздрей валил пар, будто из хорошей печной трубы. Бледное солнце едва поднялось над верхушками темных елей, когда от ворот Ферапонтова монастыря отъехали сани с крытым верхом, запряженные двумя гнедыми жеребцами. Отдохнувшие за ночь, хорошо покормленные кони сразу рванули вперед, и возница, тоже бодрый от утреннего мороза, от белой чистой благодати вокруг, от неяркого светила, медленно начинающего свои дневной круг, тихо прикрикнул: «Но, балуй!»
У монастырских ворот осталась черная толпа: это иноки вышли проводить своего игумена. В чистом воздухе печально звенело тихое монашеское пение.
Далека дорога от утонувшего в снегах Ферапонтова монастыря до Москвы. Несутся по узкой снежной дороге крытые сани. Верх то завалит снегом, то очистит ветром. На сиденьи внутри — шкура медвежья, ноги тулупом укутаны. Дремлет отец Мартиниан, о Москве думает, о великом князе, об оставленной обители.
А как стали приближаться к Кириллову, все мысли разом занял преподобный отец и учитель Кирилл. Вспомнилось, как мальчонкой Михаилом Мартиниан с отцом пришел в славную обитель, как впервые увидел доброго игумена, как пал пред ним на колени и повторял только одно: «Возьми меня, господине, к себе».
Сейчас вот думалось: почему так захотелось маленькому деревенскому пареньку в монастырь? Почему решил уйти от мира? Почему так тянуло за эти крепкие стены, в высокий храм, где и воздух, казалось, совсем иной? Почему с таким недетским благоговением глядел на святые образа, почему готов был слушать тихое монашеское пение и стоять неподвижно на молитвах, хотя какие дети это могут?
Не было у отца Мартиниана ответов на эти вопросы, но в памяти всплыли рассказы двух странников, зашедших однажды в деревню. Один был особенно приметным: черный, носатый, заросший густой бородой. Маленький Михаил так и сказал брату: «Смотри, чистый ворон!» Странник услышал, но не обиделся. Напротив, подтвердил: «Точно, Вран мое прозвание. А по имени зовут Авксентием!» Попросились прохожие переночевать, их и пустили. Зима, а на печке тепло, коптил светец, пахло животными: из-за холодов маленького теленка и кур держали в дому. А Вран рассказывал про чудного старца Кирилла, что раньше жил далеко-далеко, аж в самом стольном граде Москве, а теперь вот прибыл сюда к ним и поселился на берегу Сиверского озера. Чудеса с ним происходили разные, потому как не простой это был старец. Поведал Вран, как однажды проходили они с товарищем по дикому лесу и нашли там инока. Удивились его пустынному житию, столь трудному и жестокому. Остались на время с ним, внимали его боговдохновенному слову. Потом начали приходить часто, приносить самое необходимое: ничего ведь не было у старца одинокого. А сами слушали его поучения, вдохновлялись ими на праведное житие и разносили по краю весть о необыкновенном пустыннике.
Не иначе, как сам Бог и Его Пречистая Матерь хранили того дивного старца. Иначе как объяснить такие случаи... Вот, например, шли они по местам вокруг обители, и вдруг враг изобрел такую кознь: навел попущением Божиим на старца тяжелый сон. Не мог Кирилл идти дальше, сморился. Сказал: «Вы ступайте, а я посплю». Спутники ему ответили: «Отче, иди в келью и там поспи». Он же никак не мог. Лег на землю, заснул. Потом сам рассказывал, что вдруг страшный голос разбудил его: «Беги, Кирилл, беги!» В ужасе отбежал старец от этого места, и тот же час упало туда, где лежал, огромное дерево. Помолился инок Спасителю и Богоматери, а потом многие дни и ночи без сна проводил. Ночью стоял на молитве, днем трудился — лес вырубал, расчищал место и огнем палил... Однажды так запылало все кругом, что сквозь дым и пламя, ничего не было видно. Куда и бежать — не знали. Обратился Кирилл к скоропомощнице — Пречистой Деве, и вдруг явился кто-то, взял его за руку и вывел из огня, так что старец не пострадал.
И еще рассказывал Авксентий Вран, что задолго до того, как пришел сюда Кирилл, на месте, где он поселился, слышали проходящие люди звуки колокола и дивное пение. Видно, место то издавна было любо Богородице. Вот и выбрала Она блаженного старца из стольного града, чтобы основал здесь святую обитель. Ведь не по своей воле он пришел в северные края. Сама Пресвятая Богородица путь ему указала.
Молился как-то благоверный игумен в своей келье в Симоновом монастыре. Просил Пречистую Деву Марию, чтобы наставила его, показала путь, которым надо идти, указала бы место, удобное для спасения. И вот когда преподобный Кирилл запел по обычаю акафист Божьей Матери, вдруг услышал он дивный голос за стенами кельи, с высоты говорящий: «Кирилл, уйди отсюда. Иди на Белое озеро... Там найдешь покой, там тебе уготовано место, в котором спасешься».
Отворил преподобный оконце и увидел свет великий, сияющий на небе, в северной стороне, где должно быть Белое озеро. Лучом, словно перстом, указывалось ему, где поселиться. Застыл Кирилл и воочию увидел то самое место, словно оно находилось рядом.
После этого чудесного видения пошел блаженный Кирилл вместе со своим духовным братом Ферапонтом на Белое озеро. Много земель исходили они, все искали пустынное место, указанное игумену в видении, пока не нашли то, где теперь монастырь стоит. Было тогда авве Кириллу шестьдесят лет, и еще тридцать пребывал он в новой обители. Началась она с небольшой кельи, вырытой в холме, да креста, вкопанного в землю. Теперь разросся монастырь. Славен он храмом Пречистой Богородицы в честь Ее Успения да именем преподобного Кирилла, которому дарована была способность к чудотворениям за его праведную, преславную жизнь и великую веру.
А блаженный Ферапонт, духовный брат Кирилла, пожив с ним немного, решил отойти в другое место, верст на пятнадцать. Получил он благословение святого старца и ушел. Выбрал место угодное, основал монастырь, который стал называться Ферапонтовым, и устроил там церковь во имя Рождества Богородицы.
После этих рассказов, услышанных от Авксентия Врана, и стал мечтать мальчик Михаил из крестьянской семьи, что жила в деревне Березняки, о служении Господу Богу и Его Пречистой Матери. Отец ругался, мать плакала, да никакие уговоры не помогали. Ушел отрок в Кириллову обитель, читать - писать выучился, игумен сам постриг его в иноки и оставил при своей келье, чтобы самому следить за новоначальным монахом.
...В Кирилловой монастыре остановились ненадолго. Увидел отец Мартиниан стены обители — и сердце сжалось, будто пришел к отчему дому, где не был много лет. Снег стоял высокий, и деревянное заграждение обители, крепко сбитое из толстых стволов, казалось невысоким и ненадежным. Да и храм Успения Пресвятой Девы Марии словно утонул в снегу, хотя старательные монахи чистили монастырский двор. Постарела церковь, потемнела, только осиновые лемеха на куполах серебрились от неярких солнечных лучей да деревянный крест темнел на светлом небе.
Монастырские служки, стоящие у ворот, сообщили Мартиниану, что игумен Трифон уже отъехал в Москву, ибо звал его великий князь к себе в стольный град за духовным советом.
Отец Мартиниан поклонился гробу преподобного старца Кирилла, прочел теплые молитвы и попросил отца и учителя быть ему наставником и защитником на новом пути. Над мощами преподобного уже была устроена рака, рядом с которой находился образ Богоматери. Здесь же стоял и образ самого Кирилла, где он был изображен за несколько лет до смерти: маленький, худой, большеголовый. Игумен Дионисий, основавший монастырь на реке Глушице, вытекавшей из Кубенского озера, пришел в Кириллову обитель помолиться и пообщаться с прославленным старцем. А поскольку силен был в живописи — создал икону игумена, которого уже и тогда называли преподобным. Кирилл велел убрать образ подальше и никогда не прикасаться к нему. Достали его позже, после кончины блаженного, и установили над гробом.
Икона потемнела, закоптилась. Но лик, видно, чем-то чистили: был он светел, и прозрачные глаза, из которых так часто текли омывающие душу слезы умаления, смотрели на приходящих по-доброму внимательно.
— Благослови, отче, на долгую дорогу, на разлуку,— шептал Мартиниан.— Будь со мной всегда, чтобы чувствовал я твою заботу. А ты в моей душе навеки. Господу Богу нашему, Пречистой Его Матери и тебе, отче, предаю я душу свою. Будь мне по-прежнему наставником и учителем, и если что не так сделаю — направь и наставь меня своей доброй рукой...
Отец Мартиниан приложился к иконе еще раз, заглянул в глаза преподобного старца и вышел из храма.
Неспокойно было у него на душе. Что сулит стольный град — неведомо, что прикажет великий князь — непонятно, лучше ли будет, хуже ли — поди угадай... Со смущенным сердцем поклонился святой обители Мартиниан, приложился ко всем святым образам, перекрестился на купол собора и снова тронулся в путь.
Пока ехали до стольного града, то солнце слепило глаза, отражаясь в каждой льдинке на плотном белом снегу, то вдруг набегали облака — и серело все кругом. Белоснежное покрывало земли начинало казаться каким-то грязным, а на поворотах виделась лежащая впереди дорога, помеченная темным конским навозом и усеянная стаями птиц.
В голове то светлело, то темнело. Вертелись картины той далекой поры, когда жил в келье игумена Кирилла, когда наставлял его мудрый старец в иноческом житии, заставлял переписывать книги и читать их помногу в келье и трапезной. Вспоминал Мартиниан, как работал на поварне и в хлебне, как ездили в лес пилить на зиму огромные деревья, как ходили по грибы, ягоды, орехи, ловили рыбу и собирали мед. Все пригодилось впоследствии, в одинокой жизни на Воже-озере, да и в настоятельстве; сам через все прошел, сам все сомнения и страхования монашеские изведал, сам всему выучился, так что мог теперь и других учить, и спрашивать с них. А более всего благодарен был иеромонах игумену Кириллу за то, что научил переносить трудности иноческой жизни, считая за радость и долгие-долгие моления, и короткий урывками сон, и тяжелую работу, и нелегкие часы за перепиской книг... Еще научил преподобный Кирилл находить покой в немом затворе, в одинокой жизни вдали от людей и чувствовать душой связь с Богом, с Его Пречистой Матерью и святыми угодниками, просиявшими в мире и в родной Русской земле. С тех пор полюбил Мартиниан ночные моления. Не весенние, когда взбудоражена вся природа, не летние, когда теплый ночной воздух одуряюще ароматен, и даже не осенние, когда запах прелой листвы говорит о том, что земля готовится к зимнему сну. Больше всего любил игумен холодные чистые зимние ночи, когда воздух так прозрачен, что кажется, будто и звезды где-то совсем рядом, и луна такая белая, серебряная, что если заденет ее крылом ангел — то зазвенит... В такие ночи представлял себе инок неведомого и невообразимого Бога, который где-то там, на небесах, слушал молитвы смиренного монаха и внимал им. Тогда связь между человеком, ничтожной песчинкой в Божьем мире, и всемогущим Повелителем и Господином становилась ощутимой, реальной. Именно в одну из таких ночей, молившись у келейных образов, имел Мартиниан дерзость обратиться к Всевышнему с беспокоящим его вопросом: ну как вспомнит великий князь о северном игумене да пришлет за ним, ехать ли по зову или остаться здесь, на месте? Просил игумен Всевышнего дать хоть какой-то знак, чтобы понял он, что там, наверху, его услышали. Долго молился грешный инок, пока не глянул в маленькое оконце и не увидел на небе яркую звезду, которой раньше не замечал. Может, воздух был особенно прозрачен в эту ночь, может, в келье темнее, чем обычно, может, долее всегдашнего молился свя-щенноинок, и свод небесный повернулся так, что звезда светила прямо в окошко. Кто знает... Но Мартиниан принял и понял этот знак свыше и возблагодарил Господа за то, что тот услышал его, недостойного, и соблаговолил доказать свою милость. И чувствовал в эту ночь Мартиниан, что протягивается от Всемогущего Создателя к нему, малому и грешному, пылинке в огромном непознаваемом океане бытия, тонкая-тонкая нить, что Благодать Божия распространяется и на него. Парил он душой в неведомом пространстве, ощущая присутствие Бога на земле, и верил, что Господь любит и слышит людей.
К Москве подъезжали за полдень. Еще издали увидел отец Мартиниан белые каменные стены и башни Кремля, горделиво возвышавшиеся на голубоватом снегу и таком же нежном голубоватом небе.
— Не бывал в стольном граде, отче? — спросил возница.
— Не приходилось,— ответил Мартиниан,— Мы белозерские...
— Ну, так покажу я тебе Кремль наш, чтобы запомнился!
Возница направил лошадь куда-то в сторону, и вскоре остановился на небольшом взгорье. Кругом было свободно, чисто и как-то празднично: дома скрылись в ложбине, прозрачные деревья и кусты не мешали смотреть вокруг, да и не было их в том месте, откуда надо было взирать на Кремль.
Прекрасна была Москва при этом зимнем раннем закате! Небольшие деревянные дома, почти не видные под белыми, покрытыми снегом крышами, прятались в сугробах. Зато храмы, с которых снег сдувало ветром, высились и здесь, и там, их купола с крестами притягивали к себе взор, удивляя своим обилием и теплым сиянием в золотых лучах заходящего солнца.
Мартиниан, который видел раньше только небольшие северные города да монастыри, сказал, пытаясь сохранить душевный покой и то созерцательное настроение, которое воспитывал в себе с детства:
— Велик сей град и прекрасен!
— На то он и стольный,— весело откликнулся возница и похвастался: — Нигде столько храмов Бо-жиих не отыщешь! А раньше здесь бор сосновый шумел, вот и называется холм Боровицким...
Они въехали в Кремль через Фроловские ворота, миновав по мосту глубокий ров. Вблизи кремлевские стены уже не казались такими гордыми и прочными: сильно пострадали они от татарских нашествий и пожаров. Восемьдесят лет назад построил их князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, побивший татар на поле Куликовом. Но и татары потом много били русских, жгли Москву и разоряли ее. Каменные стены хранили следы этих боев и пожарищ, хоть и чинили их, и заплаты клали, и красили. Кое-где стены уже рушились, осыпались, и черные пятна от огня были словно заживающие раны, покрытые коростой.
Зазвонили колокола — кончилась служба. Звон несся со всех сторон, особенный, трогающий душу, чистый в чистых зимних сумерках.
— Рука Божия над градом сим,— сказал Мартиниан.
Возница остановил коня сразу за воротами, где располагался монастырь.
— Зайдешь, отче, в Чудов?
Эти слова напомнили отцу Мартиниану рассказы аввы Кирилла о митрополите Алексии: день его пре-стаатения, 12 февраля, всегда отмечался в обители. В сей праздник в назидание инокам рассказывал игумен житие святого Алексия. Тогда-то и узнал Мартиниан, что слава о русском святителе еще при его жизни шла по многим странам. Когда же у татарского властителя Джанибека вдруг ослепла жена Тайдулла, обратился хан к великому князю Московскому с просьбой прислать человека Божия Алексия, ибо известно стало хану, что Бог творит чудеса по его молитвам. Пришлось Алексию ехать в Орду. Перед отъездом во время молебна, который совершался в Успенском соборе, вдруг сама собой зажглась свечка у гроба святого чудотворца Петра. Взял митрополит с собой немного воска от той свечи, и когда начал молебствования у ложа ханской царицы, зажег эту малую свечку. Окропил Алексий Тайдуллу святой водой, долго воссылал молитвы Господу и Его Пресвятой Матери, и ханша прозрела. Дивились все столь славному чуду, а когда уезжал Алексий от хана, тот наградил святителя щедрыми дарами и проводил с великою честью.
Многое попечение имел святой митрополит о жизни иноческом. По его слову возник на берегу реки Яузы монастырь, игуменом которого стал инок Троицкой обители Андроник, ученик преподобного Сергия.
А в Московском Кремле построил преподобный Алексии монастырь в честь чуда святого архистратига Михаила в Хонех. Это дивное событие произошло в IV веке во Фригии, где близ одного целебного источника стоял храм святого архангела Михаила. Язычники хотели разрушить его. Соединили два горных потока в один и направили его на храм. Некий старец Архипп, живший при церкви, стал молиться святому Михаилу. Явился крылатый архистратиг, ударил жезлом по камню, и в образовавшуюся расщелину хлынули воды, которые должны были разрушить храм.
Монастырь, поставленный в Московском Кремле, напоминал людям о чуде архангела Михаила и о чуде, свершенном митрополитом Алексием с ослепший ханской женой. Здесь же, в Чудове, святитель был погребен после своей смерти.
Отец Мартиниан перекрестился на главы монастырской церкви.
— Прости меня, великий святитель, что не могу ныне помолиться у твоего гроба. Не оставлю тебя вниманием, приду поклониться святым мощам. А сейчас не осуди меня, грешного, великий князь ждет.
Сани снова, теперь уже не спеша, поехали по кремлевскому взгорью.
У Вознесенского монастыря стояла неоконченная каменная церковь.
— Почто разрушаются эти каменные столбы? — спросил отец Мартиниан.
— Да княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, после смерти мужа основала здесь монастырь, назвала Вознесенским. Сама заложила каменную церковь, а построить не успела. Так вот и стоит всё...
Строить некому. У нас ведь как: то великий князь — Василий Васильевич, то его дядя князь Юрий, то брат Василий Косой, то другой брат Дмитрий Ше-мяка... Чтобы церкви строить, покой в землях нужен... Теперь Шемяка-то бежал, снова Василий Васильевич на великом княжении. Хоть и слепец он, а дай-то Бог, чтобы мирно правил до конца дней своих, да чтобы конец тот случился не скоро!
— Дай Бог,— повторил Мартиниан, удивляясь про себя разумности суждений возницы.
На площади перед Успенским собором белозерский игумен встал на колени и трижды коснулся челом земли, покрытой снегом: он склонялся ниц перед святыней Русской земли, главным храмом, построенным еще при святом митрополите Петре. Теперь в этом Доме Пресвятой Богородицы находились и мощи преподобного старца; он сам завещал похоронить себя здесь.
Замолчали колокола, возвещавшие конец службы. Народ шел из церкви, разноцветная толпа напоминала летнее луговое цветение.
Отец Мартиниан вошел в собор, когда свечи еще не погасли и в храме было светло, но уже малолюдно. Игумен поставил свечку к иконе Христа Спасителя, по обычаю находящейся справа от Царских врат, приложился к храмовому образу Успения Божьей Матери, написанному святым митрополитом Петром, и особенно долго молился перед известной всей Руси Владимирской иконой Богоматери.
Много в Русской земле чудотворных икон, на многих из них запечатлен образ Пресвятой Девы Марии то с Младенцем Иисусом Христом, то без Него, но Владимирская икона, перед которой склонил колени отец Мартиниан, была особенной. Сам святой евангелист Лука, врач и живописец, запечатлел Пречистую Деву еще при жизни Ее и получив благословение Богородицы. Написал он несколько икон, но эта, где Богоматерь и Младенец Иисус прильнули друг к другу в порыве нежности, почиталась на Руси как никакая другая. Овеянная именем евангелиста Луки, прибыла она в Киев еще до Юрия Долгорукого, прибыла из самого Царьграда, из Византии, колыбели православия. Обитала икона в Вышеградском женском монастыре, недалеко от Киева, и была известна своими чудесами: сама собой сходила со стены и висела в воздухе, словно собиралась оставить здешние места и тронуться в далекие края...
Пришло время, когда Юрий Долгорукий стал великим князем на киевском столе, а своего сына, Андрея Боголюбского, посадил недалеко от себя, в Вы-ш городе.
Андрей же рвался в родные суздальские места и однажды тайком от отца собрался уйти из Киева, взяв с собой в качестве покровительницы икону Богоматери.
Придя в обитель и увидев образ, на который ему указали, князь склонился до земли и сказал: «О Пресвятая Богородица, мать Христа Бога нашего! Если хочешь быть мне заступницей в пути моем на Ростовскую землю, посетить со мной новопросвещенные народы, пусть по твоей воле так и будет... Будь мне, грешному и малому, защитницей в новом трудном деле... Не оставь меня на пути моем».
Много чудес было от этой иконы. В самые трудные минуты молились и князь, и его спутники перед этим образом, и помогала им заступница-Богородица: то спасла проводника на коне, который начал тонуть в бурной реке, то уберегла жену попа Микулы от взбесившейся лошади, то помогла больной беременной княгине родить здоровое дитя и самой поправиться.
Князь Андрей Боголюбский чрезвычайно почитал эту византийскую икону и построил для нее во Владимире большой каменный собор в честь Успения Божьей Матери. Украсил его дивно и саму икону убрал в золотой оклад с драгоценными камнями и жемчугом.
А во времена Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского и отца нынешнего великого князя, спасла Богоматерь град Москву от татар, ибо принесли на защиту города из Владимира чудотворную икону, поставленную там Андреем Боголюбским.
Тогда шел на Русь враг могучий и страшный — нечестивый воитель Тимур, иначе прозываемый Тамерланом. Ужас охватил всех: ожидали смертей, пожаров и полона. Церкви были открыты с раннего утра до глубокой ночи, горожане молились, пред алтарями лились слезы.
Вот тогда-то вспомнил великий князь Василий Дмитриевич о чудотворной Владимирской иконе Богоматери, которая уже не раз помогала в трудную минуту. Чудный образ взяли во Владимире, понесли в Москву, и прибыла она в стольный град 26 августа 1395 года. Встречали икону на поле, далеко от городских стен. Вышли на эту встречу священники и бояре, князья и простые люди, женщины и дети, нищие и калеки. Киприан-митрополит принял икону на руки свои и со крестами и другими святынями, с пением и свечами принесли ее во град, торжественно внесли в Успенский собор и поставили у Царских врат, продолжая молитвенное служение. Перед чудным образом просили люди Божью Матерь о заступлении, о покровительстве, о чуде. И чудо свершилось. В ночь на 26 августа, когда икона прибыла к Москве, увидел злочестивый царь Тимур страшный сон: перед ним была гора высокая, с горы шли чуждые ему святители с золотыми жезлами в руках, а над ними в воздухе стояла жена в багряных ризах со множеством воинства. Объяснили Тимуру его приближенные, что видел он русских святых и саму Богородицу, которая встала на защиту стольного града Москвы.
Испугался Тимур и ушел от города. А государь повелел на древнем Кучковом поле, на том месте, где встречали чудотворную святыню, поставить храм Богоматери с монастырем, названным Сретенским,— в честь торжественной встречи Владимирской иконы Божьей Матери, оградившей Москву от врага.
С того времени стала Владимирская икона главной святыней русских земель. Всякий, приходящий в стольный град, склонялся перед этим образом; Успенский собор стали называть Домом Богоматери и считали Пресвятую Деву Марию защитницей и покровительницей города.
От святой чудотворной иконы пошел отец Мартиниан в северный придел собора, где хранились мощи митрополита Петра. И здесь белозерский игумен долго и основательно молился у гроба святителя, первым предрекшего славу небольшому городу, которому суждено было стать стольным градом земли Русской. Именно святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и посоветовал князю Ивану Даниловичу, внуку Дмитрия Донского, сыну Даниила Московского, построить в Москве каменную церковь в честь Божией Матери. «Если создашь ты храм Пресвятой Богородицы,— говорил владыка, — то и сам прославишься, и город твой будет больше других прославлен, и святители поживут в нем, и руки твои взыдут на врагов, и Бог в нем будет прославлен, и кости мои тут положены будут».
Послушался митрополита князь Иван Данилович, начал строить каменный собор, и святой Петр-митрополит своими руками устроил себе гробницу близ жертвенника в этом храме. В нее и был положен, когда настал час его свидания с Богом. С тех пор знаменовались у гроба святителя князья и бояре, и весь народ почитал нового святого Русской земли.
(продолжение ниже)
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЗОВЕТ (продолжение)
Великий князь принял белозерского игумена после службы, которую он отстоял в своем княжеском соборе, возведенном в камне более пятидесяти лет назад и освященном в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии. Собор был невелик, но украшен дивно. Лучше иконописцы Руси убирали его. То были приезжий грек Феофан, Прохор с Городца да чернец Андрей Рублев.
Доложили великому князю о приезде белозерского игумена сразу после службы, и Василий Васильевич повелел привести его прямо в свой княжеский храм. От гроба митрополита Петра, где подошел к Мартиниану княжеский отрок, повели его через кремлевский двор, к высокому крыльцу храма, затем по узкому проходу к дверям, через которые сам князь из своих палат входил в церковь.
Отец Мартиниан, творя про себя тихую молитву и беспрестанно осеняя себя крестными знамениями, вошел в храм и остановился на пороге. Ярко горели свечи: после службы их еще не гасили. Небольшое помещение было залито огнями, отраженными многократно в начищенных окладах икон. Воздух наполнен фимиамом из кадильниц и запахом горящего воска. Потрескивали свечи в высоких церковных светильниках, свисало с купола паникадило со множеством затаенных огней. Здесь, в княжеском Благовещенском соборе, оно было особенно искусно вычеканено из меди, позолочено и начищено так, что рябило в глазах. Скользящие, мерцающие, живые блики света создавали в храме какое-то неведомое, неуловимое движение, и казалось, будто не застывшие образы смотрят с икон, а сами святые во главе со Спасителем и Его Пречистой Матерью населяют храм, живут в нем, встречают и провожают людей и безмолвно беседуют с ними, осуждая или одобряя их деяния.
Ферапонтовский игумен замер перед этой сдержанной красотой. Скромные северные монастыри да сельские храмы не могли похвалиться особенным мастерством живописцев. Здесь же каждая икона в иконостасе радовала глаз своим благородством, подбором красок, четким рисунком. Отец Мартиниан сам не владел кистью, он больше был по книжному делу, но красоту церковной живописи, ее душу понимал очень хорошо. Сразу определял, кто писал: или заезжий ремесленник, которому надо побыстрее сделать работу, или чернец, неторопливо и с божественными помыслами взявшийся за кисть. Впрочем, это мог быть и мирянин; все одно чувствовалась душа того, кто писал эти земные видения потустороннего мира. Одухотворенные через мастерство иконописца дыханием Божиим, они жили теперь самостоятельно, передавая частицу Благодати Господней всем приходящим сюда.
Мартиниан пал у дверей на колени и трижды коснулся челом холодных каменных плит, каждый раз осеняя себя крестом.
Один из ближних бояр, не расстававшийся теперь с великим князем, что-то шепнул государю на ухо, и Василий Васильевич громко, так что звук его голоса вознесся к образу Спасителя в куполе, сказал:
— Мир тебе, отче Мартиниане... Благослови раба своего недостойного...
Мартиниан встал с колен и пошел к великому князю, который стоял напротив местной иконы Благовещения Пресвятой Деве Марии, находящейся в иконостасе рядом с иконой Христа, справа от Царских врат.
— Мир тебе, великий князь. Благослови Господи и тебя, княже, и великую княгиню Софью, и великую княгиню Марию, и всех деток твоих.
Игумен осенил крестом великого князя, за ним княгиню и сына Ивана, подведенного к нему дядькой-пестуном.
После окончания церемонии отец Мартиниан снова огляделся вокруг.
— Зело красен княжий собор,— тихо сказал он,— будто на небеса попадаешь.
— Старался мой батюшка, великий князь Василий Дмитриевич,— ответил государь.— Повелел он на роспись поставить лучших мастеров. Слыхал, небось, про грека Феофана да про чернеца Андрея Рублева, что дивную Троицу для Сергиева монастыря написал?
— Слыхать — слыхал, а видеть не приходилось.
— Зело, зело мастеровито и души много,— заключил великий князь.— Видно, ангел за спиной чернеца стоял, когда тот кистью водил...
— Весьма искусен чернец в иконописи был,— снова сказал Мартиниан, оглядывая иконостас— Не встречал я еще такой лепоты, хотя много повидал храмов. Дом Пресвятой Богородицы надо бы так же украсить.
— Прежде чем украсить, его еще построить надо... Нынешний храм уж стар стал: при митрополите Петре еще возводили. Да вот беда — денег нет на такое большое строительство. Татары, как выпустили меня из плена, обобрали княжество мое, да и сейчас дань собирают. Вынуждены были мы пустить их в наши земли. Вот окрепнем маленько, с Шемякой разберемся, укрепимся на своем великом столе — тогда уж дело и до Дома Пресвятой Богородицы дойдет. Правда, князь Иван?
Мальчик не вздрогнул, не испугался от неожиданного отцовского обращения, а ответил серьезно, по-взрослому:
— Как есть правда, батюшка великий князь. Отцу Мартиниану понравилось и это обращение старшего к младшему, и ответ младшего, его спокойное, уверенное слово, и крепкая властность, что уже чувствовалась в этом ребенке. И подумал белозерский игумен: «Не может человек своим слабым умом познать великий промысел Божий. Может, и дал Господь такое тяжкое испытание великому князю, чтобы крепче опирался он на сына старшего, чтобы рос у отцовского плеча крепкий дубок, чтобы с малолетства вникал во все государственные заботы и учился твердому управлению государством. Может, Божиим соизволением вырастет на Руси молодой государь, укрепит княжества свои, сплотит всех князей воедино и прогонит прочь проклятых татар...» Вслух же отец Мартиниан сказал:
— Звал ты меня, княже, вот я и приехал.
— Звал,— охотно откликнулся Василий Васильевич.— И тебя, и кирилловского игумена. Тот уже приехал, видно, торопился на княжий зов. Поставили мы с митрополитом Ионой его игуменом Новоспасского монастыря в Кремле. Хочу, чтобы рядом со мною был...
Мальчик Иван тихо тронул отца за полу кафтана, и князь положил руку на плечо сына. Видимо, это было привычно и уже не вызывало у внука Дмитрия Донского ни скорби, ни раздражения. Свыкся великий князь с вечной темнотой, научился жить, не видя белого света, верил теперь больше своим ощущениям и своему слуху. Да и ближние старались угадывать его желания, так что просить не надо было. Вот и сейчас восьмилетний Иван привычно подставил под руку отца свое плечо, и великий князь оперся на него, словно худенькое, слабое еще тело старшего сына служило ему опорой не только в движении по храму или палате, но и в самом великом княжении.
Пока шли из церкви в княжеские палаты, отец Мартиниан успел отметить, что великий князь поздоровел и телом, и духом. Не было ни прежней бледности, ни ввалившихся серых щек, ни согнутых плеч. Исчезли хлипкость, неуверенность, слезливость. Шел Василий прямо, ступал твердо, голову держал высоко, и повязка на глазах была белая, льняная, вышитая, так что не привлекали внимания пустые глазницы. Поседел, конечно. В темных волосах и бороде прибавилось серебряных нитей. Но стал великий князь как будто даже красивее, увереннее в себе.
Игумен ни о чем не спрашивал Василия: ни зачем вызывал, ни что предлагал. Да и великий князь молчал, уверенно двигаясь за сыном по много раз хоженному пути, сворачивая в нужных местах, обходя колонны, поднимаясь на ступени.
В приемной палате, когда сам князь сел на широкую, покрытую темно-красным сукном лавку, он начал разговор:
— Помнишь, отче, мое обещание, что дал я тебе в твоей обители?
Мартиниан опустил голову и тихо, но внятно произнес:
— Неизреченна милость Божия, что изливается на нас, грешных, через тебя, великий князь.
— Растрогал ты сердце мое тогда,— продолжил Василий Васильевич,— и сказал я: если поможет мне Господь снова занять великий стол, не забуду я ни игумена Трифона, ни тебя, отче. Ибо сильно поддержали вы меня в горести моей, грех мой великий клятвопреступления на себя взяли, не убоялись ни кары небес, ни земного наказания от злодея Ше-мяки. Ныне сел я снова с Божьей помощью на великий стол, и враги мои бегают от меня по разным землям. Хочу я, чтобы ты, отче, как и Трифон-игумен, был возле меня, чтобы мог я в трудную минуту обратиться к твоей духовной помощи. Хочу, чтобы наставлял ты меня мудрым советом и дарил свое благословение, чтобы через тебя Благодать Божия была на мне, моем доме и моем великом княжении. Василий прервался на мгновение, как то по-особому выпрямился на лавке, так что стал казаться выше ростом, и заговорил медленно и торжественно:
— Желал бы я, отче Мартиниане, чтобы принял ты под свою праведную руку обитель отца нашего преподобного Сергия, чтобы стал игуменом монастыря Пресвятой Троицы, мудрым наставником для иноков обители.
Отец Мартиниан смутился духом: великая это честь — стать настоятелем монастыря преподобного Сергия Радонежского. Обитель велика, живет по заветам святого старца, игумена всей земли Русской, и ученика его преподобного Никона. Их святое житие всем известно, их благочестие выше всякой меры, их монашеские подвиги служат примером для других иноков. А он кто?.. Неприметный игумен маленького северного монастыря... Грешный раб Царя Небесного, ничем особенным не отличившийся и никаких заслуг не имеющий...
— Что молчишь, отче? — строго спросил великий князь, в голове которого мелькнула мысль: может, обиделся игумен, что мала честь предложена?
Мартиниан склонил голову, опираясь на свой игуменский посох.
— Недостоин я по грехам моим этой великой чести. Удалиться бы мне в пустынь подальше от людей и жить там в безмолвии, замаливая грехи свои и человеческие, прославляя Господа нашего, Его Пречистую Матерь и всех святых угодников да вымаливая спасение перед Судом Божиим.
— Молился ты уже, отче, в пустыни,— сказал великий князь, показывая, что знает многое из жизни белозерского игумена.— Как преставился преподобный Кирилл, сколько ты жил вдали от людей?
— Долго жил,— ответил Мартиниан.— Подвизался в молитве Господней на озере Воже, на острове. Был один, пока не стали вокруг собираться монахи, чтобы вместе спасаться.
— Жизнь твою праведную знаем,— сказал Василий Васильевич,— перед подвигами твоими монашескими преклоняемся, смирение твое хвалим. Только и обители преподобного Сергия без игумена нельзя. Нет сейчас там настоятеля, иноки просят дать им достойного. Ты, отче, скромен, но в делах игуменских не новичок, обитель Ферапонтова при тебе расцвела, иноков стало больше, и слава о тебе не только по всему белозерскому краю идет, но и до стольного града Москвы докатилась.
— Зря возносят меня, недостойного. Напрасно лелеют гордыню мою, ибо только Господь да я сам знаем, как малы подвиги мои, как ничтожны заслуги, как тяжело для меня игуменство в обители. Трудно мне, грешному, управлять и наставлять других иноков в их жажде спасения.
Великий князь не сердился на белозерского игумена, терпеливо слушал, ибо знал, что будет отказываться. Зная, что прикипевшему душой к одному месту трудно менять его на другое. Ведал, что Мартиниан — северянин, ему белозерский край мил и привычен, как отчий дом. Это все равно что девке выходить замуж — и надо, и страшно, и дома родного жаль.
— Соглашайся, святой отец, не отказывайся,— мягко сказал Василий Васильевич.— К тебе через преподобного Кирилла от самого радонежского чудотворца ниточка тянется. Как святой отец наш Сергий выделял среди многих инока Кирилла и приходил беседовать с ним в Симонов монастырь, так и преподобный Кирилл выделял тебя из многих, учил, и наставлял, и в келье своей держал...
— Не по заслугам моим выделял меня преподобный, а токмо по доброте своей,— возразил Мартиниан.
Но великий князь перебил его:
— Видно, провидение Божие поставило тебя, отче, на моем пути. Связан ты с угодниками Божиими, что молят сейчас Господа за нас. Иди и ты по их пути, и дай Бог стяжать тебе такую же милость Господню, какую стяжали преподобные Сергий и Кирилл. Хочу услышать согласие твое. Отец Мартиниан тихо ответил:
— Воля Господа на все. Соглашаюсь я на этот трудный шаг, но об одном прошу Спасителя, и Его Пречистую Матерь, и всех святых: если неугодно им это, пусть дадут знак — и удалюсь я в пустынь, в глухие северные леса, чтобы безмолвствовать и молиться, прославляя Господа.
Едва покончили с главным делом, в палату вошел боярский сын и доложил:
— Прибыл боярин Михаил Сабуров, от князя Дмитрия Шемяки.
— Зови! — коротко приказал князь.
Пока боярский сын ходил за послом, Василий Васильевич объяснил:
— Посылал я своего боярина Василия Кутузова к князю Дмитрию, просил о матери своей, великой княгине Софье. Шемяка, вишь, захватил ее в Чухло-ме и не отпускает. Поехал боярин Кутузов к князю Дмитрию, изложил то, что я велел, а тот все это время думал. Теперь посмотрим, что надумал...
В палату вошел худой, черноволосый Михаил Сабуров, боярин Шемяки. Был он скор, резок в движениях. Быстро вошел, быстро преклонил колено и быстро встал, непочтительно. А и то — был он слугой не великого князя, а Шемяки.
— Буди во здравии многие лета, великий князь,— скороговоркой произнес он.— Князь Дмитрий Юрьевич, брат твой, обдумал все со своими боярами.
— И что решил князь Дмитрий? — нетерпеливо спросил Василий Васильевич.
— Велел он тебе сказать следующее: «Брате, что мне томить не тетку, но и госпожу свою, великую княгиню, в плену? Сам бегаю, а люди себе надобны, и уже истомлены они, а еще и ее стеречь? Лучше отпустить ее».
Великий князь встал с лавки, да не решился шагнуть вперед, только нетерпеливо спросил:
— Где же мать моя, великая княгиня Софья?
— Со мной проделала почти весь путь, сейчас приближается к Троицкому монастырю. Я же вперед ускакал, чтобы сообщить великому князю новость радостную. С ней сейчас боярин Василий Кутузов со своими людьми.
— И то, весть и вправду хорошая,— согласился Василий,— За такую весть и пожаловать тебя не грех, да не знаю, чем.
Тут боярин Сабуров пал разом на оба колена.
— О милости прошу великой!
— Проси,— разрешил князь.
— Челом бью великому князю: разреши остаться служить тебе!
— А Шемяка как же?
— Хочу служить великому князю,— снова быстро сказал боярин Сабуров и пал ниц к ногам Василия, касаясь лбом пола.
Великий князь по слепоте своей неожиданно шагнул вперед, наступил нечаянно на разметавшиеся по полу волосы простертого боярина, тот невольно дернулся, и великий князь пошатнулся. Слуга кинулся к нему, чтобы поддержать.
Однако Василий Васильевич не рассердился, только усмехнулся невесело:
— Эх, боярин, еше и на службу не заступил, а уж свалить норовишь...
Сабуров поднялся, побелел лицом.
— Прости, княже, не хотел...
— Бог простит,— все так же невесело, с усмешкой, сказал великий князь.— Оставайся, дело тебе найдем.
А перед Мартинианом похвастался:
— Не первый уж боярин от князя Дмитрия ко мне перебегает... Всех принимаю... А вот ежели от меня пойдут...
Брови его нахмурились, скулы сжались и губы вытянулись тонкой нитью.
Сабуров порозовел лицом и осторожно приложился губами к руке Василия.
— Ну, отче, вместе к Троице поедем! — уже весело закончил разговор великий князь. Потом подумал немного и переменил свое решение.
— Нет, отче, ты сейчас здесь, в Москве, нужен. Нареченный митрополит наш Иона готовит послание против Шемяки. Завтра прибудут владыки Суздальский и Ростовский, архимандриты... Тебе как игумену Сергиевой обители с ними встретиться надо, а допрежь всего епископу Рязанскому, Ионе-митрополиту поклонись... Слыхал я, силен ты в книжном деле. Вот и помоги иереям своим мудрым советом... Составьте такую духовную грамоту, чтобы братанича моего за душу взяло, чтобы отказался он от притязаний на великокняжеский престол и не мутил больше народ в наших землях...
— Сделаю, господине, что смогу... Мне ли, худородному, встревать в дела владык?!
В голосе Мартиниана чувствовался испуг, и князь чутким ухом уловил его.
— Не пужайся, отче. Бог тебя умом не обидел и благостью своей не обошел. Встретимся в обители Сергиевой или здесь, в Москве, если раньше вернусь.
Василий Васильевич склонился перед отцом Мар-тинианом, тот благословил великого князя, и слуга повел игумена в отведенный ему покой. Время было позднее, и по всем правилам монашеской жизни надлежало инокам сейчас молиться в своих кельях.
Рязанский епископ Иона, которого давно уже считали митрополитом, был красивым, высоким, велеречивым и громкогласным, как и положено первейшему из святителей. Почитали его как духовного владыку удельного княжества, близкого к Москве и поддерживающего великого князя, но особенно усилилось его влияние после известного случая с детьми Василия, когда уговорил Шемяка епископа взять детей великого князя от Ряполовских на свою епитрахиль, обещая освободить их вместе с отцом. Нарушил тогда свое слово князь Дмитрий, заточил детей вместе с отцом в Угличе. Такого бессовестного обмана владыка стерпеть не мог и каждый день обращался к Шемяке с упреками, что тот неправду учинил, сам солгал и архиерея солгать заставил. Пугал карой небесной, вечными муками ада, грозил оставить без благословения.
Не выдержал Шемяка, сдался, выпустил Василия из Углича с детьми. На свою же голову отпустил из пленения...
В одном, пожалуй, прав был князь Дмитрий: повелел рязанскому епископу идти в Москву и занять митрополичий престол. Да и то не его воля на то была. Еще раньше, в 1431 году, когда умер митрополит Фотий, великий князь Василий Васильевич созвал архиепископов, епископов и весь освященный собор и велел им из своей среды избрать достойного на Русскую митрополию. Выбор пал на Иону, епископа Рязанского и Муромского, который много проповедовал по своей епархии, крестил язычников, ставил церкви и заслужил любовь паствы.
Избранный святитель отправился в Царьград с посланием от великого князя к царю Иоанну Палеологу и патриарху Иосифу для посвящения в митрополиты.
Однако некий Исидор из болгар упредил его. Когда Иона прибыл в Константинополь, тот уже был утвержден на русскую метрополию.
Святитель Иона все-таки представил царю и патриарху грамоту от великого князя. Они изъявили сожаление, что поспешили с назначением Исидора, но сделать ничего уже было нельзя. Сказали владыки Царьграда епископу Ионе: «Не можем мы изменить уже свершившееся, но если что промыслит Воля Бо-жия об Исидоре — или смертью он скончается, или что иное с ним станет — ты, Иона, будешь готов и благословлен на престол Киевский и всея Руси».
Поскорбел святитель Иона, что безуспешно ходил в Царьград, однако смирение свое не преступил и вернулся на Русь как простой епископ, подчиняясь во всем Исидору, восхитившему престол его. Смиренная преданность воле Божией не оставляла владыку все эти годы.
Много событий истекло с тех пор, как побывал епископ Иона в Царьграде. Прошел Флорентийский собор, тянувшийся почти семь лет. Спорили на нем православные и католики, и встал русский митрополит Исидор на сторону католиков. Возвратившись в Москву, вошел он в стольный град 19 марта 1441 года, неся перед собой латинский крест, называемый на Руси «крыж». Привез Исидор и послание Василию II от самого папы римского Евгения, который радовался тому, что теперь восточная и западная церкви едины.
После богослужения в Успенском соборе приказал Исидор дьякону с амвона прочитать акт унии, заключенной между греческой и римской церквами. Все присутствующие молчали, пораженные.
Лишь великий князь Василий Васильевич первым распознал предательство Исидора, не принял благословения от руки его, срамил и вместо пастыря и учителя называл еретиком волкохищным. Затем повелел свергнуть неверного с митрополичьего престола как отступника и заточить его в монастыре.
Но хитрый Исидор недолго пробыл в оковах. Через несколько месяцев бежал он в Литву, к князю Казимиру, оттуда — к папе в Рим. Глава католического мира оценил бывшего русского митрополита, возвел его в сан пресвитера-кардинала, а в конце жизни наградил титулом патриарха.
Русский митрополичий престол оставался без владыки, Иона же именовался нареченным митрополитом. И все испытывали неудобство от того, что не знали, как именовать владыку. Епископом — вроде низковато, митрополитом — высоковато.
Вот и отец Мартиниан, собираясь к владыке, раздумывал, как обращаться к святителю. Решил, что будет называть его митрополитом. Ибо Божий промысл давно указывал на то, что быть Ионе во главе русской церкви. Высшие архиереи и священники, игумены и монахи помнили, что когда однажды митрополит Фотий пришел в Симонов монастырь и увидел в пекарне спящего молодого инока Иону с рукой, сложенной, как у благословляющего архиерея, то сказал: «Сей инок будет великим святителем в странах российских, много неверных на путь истинный наставит и в разум истины приведет, сему же граду Москве и многим другим городам будет истинный пастырь и учитель».
Когда отец Мартиниан вошел в большую митрополичью палату с крестообразными сводами и скромным иконостасом на восточной стене, приготовления к составлению духовного послания князю Дмитрию Шемяке уже закончились. Владыки сидели по стенам на стульях с высокими спинками. Митрополичий стул с подлокотниками, резной и украшенный, был развернут лицом к иконостасу. Рядом стоял стол, покрытый зеленым сукном, и за ним на низкой скамейке сидел дьяк с листами пергамена, резной металлической чернильницей и набором гусиных перьев.
Дьяк, видно, уже читал что-то: перед ним лежало раскрытое Евангелие. Увидев входящего священно-инока, он остановился. Отец Мартиниан подошел к святителю Ионе под благословение, поцеловал его руку и пожелал владыке многих лет по воле Божьей. Тот встретил прибывшего ласково. Назвал его, чтобы все знали, кто перед ними, нарек новым игуменом Троицкого монастыря, коротко рассказал об иноческих подвигах Мартиниана, об основанной им обители на озере Воже и об игуменстве в Ферапонтовой монастыре. Особо подчеркнул связь с Кириллом Белозерским, а через него — и с самим богоносным отцом нашим преподобным Сергием, Радонежским чудотворцем. Потом перечислил присутствующих в зале: Ефрема, владыку Ростовского; Авраа-мия, владыку Суздальского; Варлаама, владыку Коломенского; Питирима, владыку Пермского... Были здесь архимандриты и игумены московских и ближних к Москве монастырей, но Иона назвал только одного — Геронтия, архимандрита Симоновского монастыря, посчитав, что других Мартиниан узнает позже сам.
Молитвы, с которых положено начинать всякое важное дело, уже были произнесены.
Иона взял со стола Евангелие с заложенными страницами и стал читать его сам. Мартиниан узнал отрывок из Послания святого апостола Павла к Ефесянам и удивился, как точно и к месту пришелся он здесь. Иона, красивый и высокий, читал тоже красиво, и сильный бархатный голос его заполнял всю палату.
— Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диа-вольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие.
Архиереи стоя слушали апостольское наставление, и когда Иона кончил читать и провозгласил «Аминь», все дружно выдохнули это евангельское восклицание, означающее конец любой молитвы, и уселись по своим местам.
Затем Иона кивнул дьяку:
— Начни сызнова.
И дьяк начал читать.
— Господину князю Дмитрию Юрьевичу...
Далее шло перечисление присутствующих, которые потом и должны были подписать это послание. Отец Мартиниан, слушая, как дьяк называет всех владык, удивился, что Иона был поименован владыкой Рязанским, а не митрополитом. Это пришлось по душе северному игумену: незаносчив Иона, власть свою не показывает, не рвется к ней, хотя и утвержден в самом Царьграде на митрополичий престол.
Епископ Иона остановил дьяка:
— Постой, здесь приписку сделать надо: посла Геронтия Симоновского впиши — Мартиниан, игумен Сергиева монастыря...
Дьяк быстро сделал поправку в тексте и продолжал длинное перечисление всех владык, архимандритов, игуменов и священников святых Божиих церквей, которые бьют челом и благословляют князя Дмитрия Юрьевича.
— А пишем к твоему благородию, по своему долгу, попечение творя о твоем единородной и бессмертной душе...
Дьяк, который, видно, и сочинил послание, попался велеречивый, словеса цеплялись одно за другое, предложения выстраивались длинные, а читал он гундосо и единообразно, так что Мартиниан в этом словесном плетении многого не улавливал.
После вступления вспомнили Божественное Ветхозаветное Писание, праотца Адама и душегубного супостата, врага всему роду человеческому диавола, внушившего Адаму мысль о непослушании Создателю. Прочитали, как Адам восхотел равен быть Богу в разумении, отчего был осужден и изгнан из Рая. И как древний праотец Адам стремился к обожению, так и отец Шемяки князь Юрий Дмитриевич огромное стремление имел к великому княжению. В Орду к царю ордынскому ходил, и сколько трудов положил, но всему православному христианству от этого истома и великие убытки были. И все-таки великого княжения князь Юрий не достиг, отдал ордынский хан ярлык Василию Васильевичу.
— Написать, как велел татарский царь князю Юрию коня под Василием вести? — прервал дьяка Ефрем Ростовский.
— Не надо,— возразил Иона.— Не захотел тогда великий князь унизить своего родственника, не велел коня под собою вести, ну и нам поминать о том нечего. Только во гнев вводить Шемяку.
Все согласились, что упоминать об этом унижении отца Дмитрия не стоит, и дьяк продолжал читать дальше о том, как, не уймясь, собрал к себе Юрий Дмитриевич злых и кровопролитных людей да согнал племянника с великого княжения, но недолго правил — снова позвал Василия Васильевича на великое государство, а сам всего с пятью человеками из Москвы съехал. Не успокоился на том, второй раз пришел в Москву, снова сел на великий стол как разбойник, а вскоре и помер. Захотел тогда старший сын Юрия Василий Косой княжения великого, но не от Божьей помощи, а от своей гордости и высо-комыслия.
— Сколько крови христианской пролил, и священников, и черноризцев погубил и извел? — с чувством восклицал писчий дьяк, и все архиереи согласно кивали головами.
Вспомнили далее, как пришел к Москве безбожный царь Махмет, стоял у самого града, и князь великий Василий Васильевич скольких послов посылал к Шемяке, сколько грамот написал, зовучи братанича к себе на помощь.
Снова с великим чувством и с покрасневшими глазами дьяк громко, на всю большую палату возопил:
— И ты к нему не пошел, и в том сколько крови христианской пролилось, и сколько много христианства в полон в поганство пошло, и сколько святых Божиих церквей разрушилося, и сколько черноризиц осквернено и девиц растленено!
Начав перечислять зловредные дела Шемякина семейства, сочинявший послание дьяк, видно, никак не мог остановиться и написал еще о битве под Суздалем, когда безбожные татары приходили на православное христианство; о том, как посылал брат старейший, великий князь, послов к Дмитрию, звал брата-князя помогать. Но тот ни сам не поехал, ни воевод своих с людьми не послал. И за ту кровь христианскую, и за уведенных в полон Бог с него взыщет.
Читающий дьяк так расчувствовался, что по щеке его скатилась слеза, утопая в густой пегой бороде.
Далее вспоминалось, как пришел Василий Васильевич из татарского плена, как опять вооружил диавол Дмитрия Шемяку желанием самоначальства и как сотворил Шемяка с великим князем зло, не меньше братоубийцы Каина или Святополка Окаянного. А много ли господствовал? Много ли в тишине прожил сам? Все в суете и в прескакании от места до места, дни и ночи томимый своими помышлениями...
— Ища и желая большего, и меньшее свое изгубил,— снова твердым голосом читал дьяк.— А Божию благодатию и неизреченными Его судьбами, брат твой старейший князь великий опять на своем государстве: поскольку кому дано что от Бога, того не может у него отняти никто...
Вспомнили милость и доброту Василия Васильевича к Шемяке, который снова — уж в какой раз! — восстал против уже ослепленного им брата.
— А не показал бы тебе брат твой старейший князь великий милосердие свое, то пришел бы ты сам к своей погибели со всеми своими... Но как ему Бог...
— Постой, постой, не торопись,— перебил своим рокочущим басом епископ Рязанский Иона.— Грамота наша от духовенства, надобно Священное Писание да Отцов церкви почаще поминать. После слов о погибели вставь слова: «вселилась бы в ад душа твоя».
Дьяк вписал слова, продиктованные Ионой, и перечитал весь кусок заново. Получилось более убедительно.
Тот же епископ Иона, которого уже раз обманул Шемяка в истории с детьми великого князя, потребовал, чтобы в письме были точно перечислены все пункты грамот с обещаниями Шемяки: быть во всем заодно с великим князем, его друзей считать своими друзьями, а врагов — своими врагами, не обижаться и не выступать ни против великого князя, ни против его детей, в Орду не ходить, ибо сношения с Ордой — дело великого князя, отдать семье государевой всю казну и поклажи, и честные кресты, и святые иконы, где бы их ни взял. Грамоты эти были в разные времена подписаны Шемякою, но уж таков был, видно, его норов: не мог забросить он мысли о великом княжении. Вот и писали духовные власти, что поразила его душевная слепота, что объят он са-мовозлюблением особым или златолюбством. Упрекали иереи Дмитрия, что «сквернит он их святые епитрахили неподобными своими богомерзкими речами, а епитрахили святые есть воображение муки Господа нашего Иисуса Христа, которые тот терпел при распятии».
Тут же прибавили, что святые епитрахили никакими речами не могут оскверниться никогда, но сам Дмитрий душу свою погубит...
Винили Шемяку и в том, что, забыв недавно подписанные в присутствии многих архиереев грамоты, он ссылается с иноверцами, с погаными татарами и с другими многими землями, снова собирая войско против великого князя, замысливая погубить и его самого, и его детей, и все православное христианство разрушити. Укоряли в нарушении крестного целования, в злохитроствовании против великого князя и обещали, что все неустройства и слезы христианские на нем же будут.
Шемяка и вправду рассылал своих послов и в Новгород Великий, и к князю Ивану Андреевичу Можайскому, и к вятчанам. Направлял даже в Казань к царевичу Мамотяку, и оттуда посол татарский пришел к Шемяке договариваться. Знали, что и поныне князь Дмитрий держал его у себя. Великий князь посылал своих людей с просьбой отдать посла Мамотякова, но Шемяка татарина не отпустил и не разрешил посланцам Василиевым даже видеться с ним.
Вот и получилось, что князь Дмитрий крестное целование не исполнил, и казну брата своего, и его матери, великой княгини, и его жены не вернул, да и что взял у бояр — все себе оставил. Прошел уже месяц, как по договорной грамоте надо было исполнить все это. Шемяка схитрил и на этот раз: нечто малое от казны великого князя и его семейства отдал, а все лучшее, большее не вернул, да и всю святость — кресты, иконы, утварь — у себя оставил.
Не понравился отцу Мартиниану конец духовного послания: уж больно смиренно молили архиереи Дмитрия исправиться: «Пожалуй, господине, побереги свою душу и свое христианство и крестное свое целование...»
Просили отдать все, что не отдал Шемяка Василию, да призывали к чистому покаянию.
— А мы, господине, ваши богомольцы, по своему долгу били за тебя челом своему господину, а твоему брату старейшему великому князю; и господин наш великий князь, как ему Бог положил на сердце, нашего слова своих богомольцев послушал, а тебя, своего брата, жаловати хочет и в братстве, и в любви держати по старине...
— Хитер и жаден Шемяка, и наши просьбы не затронут души его,— тихо сказал Мартиниан.
Все повернулись к нему, словно удивившись тому, что этот смиренный игумен с далекого Севера подает свой голос.
— Так чего ж ты хочешь, отче? Изменить или добавить что?
— Изменять не надо. Вам виднее, как с князьями обращаться. А добавить бы надо... Священное Писание вспомнить, дабы, читая это послание, проникался князь Дмитрий боязнью наказания за грехи свои.
— Говори, говори, отче,— поторопил его дьяк.— Я запишу.
— А вот пусть вспомнит князь Дмитрий великого библейского царя Давида, который еще юношей был помазан пророком Самуилом на царство, но не хотел воцариться, пока не умер царь Саул. Велики были его заслуги перед Господом: отвоевал он у иевуссеев город Иерусалим, и поселился там, и перенес туда Ковчег Завета. Расширил он Израильское царство, так что стало оно самым сильным на Востоке. Однако вспомните, как омрачились последние годы царствования Давида, какой гнев Божий навлек он на себя за свои грехи и слабости. Господь в гневе своем послал язву на его страну, и умерло израильтян семьдесят тысяч человек... Потом послал Бог Ангела в Иерусалим, и тот начал истреблять город... Увидев Ангела, стоящего между землей и небом с обнаженным мечом в руке, Давид взмолился Богу: «Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! Да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе твоем, чтобы погубить его». И только тогда смилостивился Господь над Давидом.
— Пиши, пиши, дьяк, о Давиде, сколько плакался Богу о своих согрешениях,— сказал Иона Рязанский и, обратясь снова к игумену Мартиниану, спросил:
— Еще, отче, что хочешь добавить?
— Да и о царе Навуходоносоре можно вспомнить, у которого в плену был пророк Даниил. Царь вавилонский, расхаживая по царским чертогам, сказал, возомня себя выше Бога и похваляясь: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силой моего могущества и во славу моего величия!» И еще речь его не была закончена, как раздался с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!» Страшная болезнь тут же поразила всесильного прежде царя. Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти — как у птицы. И лишь когда прошло время и умолил о нем Бога пророк Даниил, понял царь, что нет никого, кто мог бы противиться руке Всевышнего. И славил, и превозносил, и величал он Царя Небесного, все дела которого истинны, и пути праведны и который силен смирить ходящих гордо...
Все слушали и согласно кивали головами: тексты Ветхого Завета духовенство знало хорошо, да и князья, верно, его помнили. Потому дьяк записал кратко и тут же прочитал:
— Також и Навуходоносор царь о создании града Вавилона похвалися, а сколько за то пострадал, яко вол ходя и траву ядый. Но умолил о нем Бога пророк Даниил, и в человеческое чувство претворил его Бог, и тот покаялся.
Мартиниану не очень понравилась эта краткая запись, но спорить он не стал. Есть здесь иереи старше и опытнее его, первое слово за ними, а если они молчат, и ему негоже встревать.
И только после того, как епископ Рязанский Иона еще раз обратился к нему, Мартиниан предложил включить в послание такой эпизод:
— Вспомнить можно также и Григория Просветителя, который попал в заточение к армянскому царю Тиридату. Тот приказал в гневе бросить Григория к ядовитым змеям и воздвиг жестокое гонение на христиан. Но гнев Божий накрыл нечестивого царя: безумие постигло его, и ходил он несколько лет, поедая нечистоты. Лишь когда узнал он о Григории, что тот жив, когда сведал, что одна благочестивая христианка поддерживала его жизнь, принося пищу, помиловал он Григория и сам был исцелен по молитвам святого от безумия. Покаялся царь, крестился сам и все царство свое крестил. После этого благодаря трудам святого Григория вся Армения стала христианскою, и был это четвертый век по Рождеству Христову...
— Большим знатоком в книжных делах показал себя новый Троицкий игумен,— сдержанно похвалил епископ Иона отца Мартиниана.— Сейчас в обители живет приезжий монах, серб Пахомий, книжник и составитель житий святых. Соединитесь для общего дела, напишите новое житие преподобного Сергия. Старое, Епифаниево, очень уж мудрено и витиевато, читать трудно...
Отец Мартиниан склонил голову, и епископ Иона перекрестил его, благословляя на новые труды.
Затем рязанский епископ дал знак дьяку докончить чтение грамоты. Тот быстро прочитал только что сочиненный кусок о том, что можно много примеров приводить из Священного Писания, но князь Дмитрий Юрьевич и сам его хорошо знает, потому может вспомнить многое, о чем в послании не говорится. Дьяк произнес этот связующий кусочек быстро и негундосо, а в меру громко и четко. Зато последние строки, как наиболее важные, затянул высоким голосом с подвываниями, чтобы все поняли, что здесь-то и записано самое главное.
— А если захочешь пребывать в своем жестокосердии и не в покаянном сердце, и не захочешь обратиться ко Всемогущему Богу с чистой совестью, а захочешь лиха великому князю и его крови, и будешь стремиться к христианскому неустроению и погибели, и нарушишь то, на чем целовал честный и животворящий крест к своему брату старейшему, к великому князю Василию Васильевичу, то сам на себя наложишь тягость церковную духовную, и чуждым будешь Богу, и церкви Божией, и православной христианской вере; не будет на тебе малости Божией и Пречистой Его Матери, и в конечную погибель пойдешь с богомерзкими еретиками. И не будет на тебе нашего смирения, святительского и священнического благословения и молитвы ни в сей век, ни в будущий.
Ни добавить, ни исправлять ничего уже не стали, только подписались все по очереди. Первым поставил свое имя новый троицкий игумен Мартиниан как самый младший в той иерейской лестнице, которая негласно соблюдалась присутствующими. А может, нареченный митрополит, епископ Рязанский Иона так захотел отметить государственную мудрость и книжные познания иеромонаха, только что прибывшего из Белозерского края.
Великий князь принял белозерского игумена после службы, которую он отстоял в своем княжеском соборе, возведенном в камне более пятидесяти лет назад и освященном в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии. Собор был невелик, но украшен дивно. Лучше иконописцы Руси убирали его. То были приезжий грек Феофан, Прохор с Городца да чернец Андрей Рублев.
Доложили великому князю о приезде белозерского игумена сразу после службы, и Василий Васильевич повелел привести его прямо в свой княжеский храм. От гроба митрополита Петра, где подошел к Мартиниану княжеский отрок, повели его через кремлевский двор, к высокому крыльцу храма, затем по узкому проходу к дверям, через которые сам князь из своих палат входил в церковь.
Отец Мартиниан, творя про себя тихую молитву и беспрестанно осеняя себя крестными знамениями, вошел в храм и остановился на пороге. Ярко горели свечи: после службы их еще не гасили. Небольшое помещение было залито огнями, отраженными многократно в начищенных окладах икон. Воздух наполнен фимиамом из кадильниц и запахом горящего воска. Потрескивали свечи в высоких церковных светильниках, свисало с купола паникадило со множеством затаенных огней. Здесь, в княжеском Благовещенском соборе, оно было особенно искусно вычеканено из меди, позолочено и начищено так, что рябило в глазах. Скользящие, мерцающие, живые блики света создавали в храме какое-то неведомое, неуловимое движение, и казалось, будто не застывшие образы смотрят с икон, а сами святые во главе со Спасителем и Его Пречистой Матерью населяют храм, живут в нем, встречают и провожают людей и безмолвно беседуют с ними, осуждая или одобряя их деяния.
Ферапонтовский игумен замер перед этой сдержанной красотой. Скромные северные монастыри да сельские храмы не могли похвалиться особенным мастерством живописцев. Здесь же каждая икона в иконостасе радовала глаз своим благородством, подбором красок, четким рисунком. Отец Мартиниан сам не владел кистью, он больше был по книжному делу, но красоту церковной живописи, ее душу понимал очень хорошо. Сразу определял, кто писал: или заезжий ремесленник, которому надо побыстрее сделать работу, или чернец, неторопливо и с божественными помыслами взявшийся за кисть. Впрочем, это мог быть и мирянин; все одно чувствовалась душа того, кто писал эти земные видения потустороннего мира. Одухотворенные через мастерство иконописца дыханием Божиим, они жили теперь самостоятельно, передавая частицу Благодати Господней всем приходящим сюда.
Мартиниан пал у дверей на колени и трижды коснулся челом холодных каменных плит, каждый раз осеняя себя крестом.
Один из ближних бояр, не расстававшийся теперь с великим князем, что-то шепнул государю на ухо, и Василий Васильевич громко, так что звук его голоса вознесся к образу Спасителя в куполе, сказал:
— Мир тебе, отче Мартиниане... Благослови раба своего недостойного...
Мартиниан встал с колен и пошел к великому князю, который стоял напротив местной иконы Благовещения Пресвятой Деве Марии, находящейся в иконостасе рядом с иконой Христа, справа от Царских врат.
— Мир тебе, великий князь. Благослови Господи и тебя, княже, и великую княгиню Софью, и великую княгиню Марию, и всех деток твоих.
Игумен осенил крестом великого князя, за ним княгиню и сына Ивана, подведенного к нему дядькой-пестуном.
После окончания церемонии отец Мартиниан снова огляделся вокруг.
— Зело красен княжий собор,— тихо сказал он,— будто на небеса попадаешь.
— Старался мой батюшка, великий князь Василий Дмитриевич,— ответил государь.— Повелел он на роспись поставить лучших мастеров. Слыхал, небось, про грека Феофана да про чернеца Андрея Рублева, что дивную Троицу для Сергиева монастыря написал?
— Слыхать — слыхал, а видеть не приходилось.
— Зело, зело мастеровито и души много,— заключил великий князь.— Видно, ангел за спиной чернеца стоял, когда тот кистью водил...
— Весьма искусен чернец в иконописи был,— снова сказал Мартиниан, оглядывая иконостас— Не встречал я еще такой лепоты, хотя много повидал храмов. Дом Пресвятой Богородицы надо бы так же украсить.
— Прежде чем украсить, его еще построить надо... Нынешний храм уж стар стал: при митрополите Петре еще возводили. Да вот беда — денег нет на такое большое строительство. Татары, как выпустили меня из плена, обобрали княжество мое, да и сейчас дань собирают. Вынуждены были мы пустить их в наши земли. Вот окрепнем маленько, с Шемякой разберемся, укрепимся на своем великом столе — тогда уж дело и до Дома Пресвятой Богородицы дойдет. Правда, князь Иван?
Мальчик не вздрогнул, не испугался от неожиданного отцовского обращения, а ответил серьезно, по-взрослому:
— Как есть правда, батюшка великий князь. Отцу Мартиниану понравилось и это обращение старшего к младшему, и ответ младшего, его спокойное, уверенное слово, и крепкая властность, что уже чувствовалась в этом ребенке. И подумал белозерский игумен: «Не может человек своим слабым умом познать великий промысел Божий. Может, и дал Господь такое тяжкое испытание великому князю, чтобы крепче опирался он на сына старшего, чтобы рос у отцовского плеча крепкий дубок, чтобы с малолетства вникал во все государственные заботы и учился твердому управлению государством. Может, Божиим соизволением вырастет на Руси молодой государь, укрепит княжества свои, сплотит всех князей воедино и прогонит прочь проклятых татар...» Вслух же отец Мартиниан сказал:
— Звал ты меня, княже, вот я и приехал.
— Звал,— охотно откликнулся Василий Васильевич.— И тебя, и кирилловского игумена. Тот уже приехал, видно, торопился на княжий зов. Поставили мы с митрополитом Ионой его игуменом Новоспасского монастыря в Кремле. Хочу, чтобы рядом со мною был...
Мальчик Иван тихо тронул отца за полу кафтана, и князь положил руку на плечо сына. Видимо, это было привычно и уже не вызывало у внука Дмитрия Донского ни скорби, ни раздражения. Свыкся великий князь с вечной темнотой, научился жить, не видя белого света, верил теперь больше своим ощущениям и своему слуху. Да и ближние старались угадывать его желания, так что просить не надо было. Вот и сейчас восьмилетний Иван привычно подставил под руку отца свое плечо, и великий князь оперся на него, словно худенькое, слабое еще тело старшего сына служило ему опорой не только в движении по храму или палате, но и в самом великом княжении.
Пока шли из церкви в княжеские палаты, отец Мартиниан успел отметить, что великий князь поздоровел и телом, и духом. Не было ни прежней бледности, ни ввалившихся серых щек, ни согнутых плеч. Исчезли хлипкость, неуверенность, слезливость. Шел Василий прямо, ступал твердо, голову держал высоко, и повязка на глазах была белая, льняная, вышитая, так что не привлекали внимания пустые глазницы. Поседел, конечно. В темных волосах и бороде прибавилось серебряных нитей. Но стал великий князь как будто даже красивее, увереннее в себе.
Игумен ни о чем не спрашивал Василия: ни зачем вызывал, ни что предлагал. Да и великий князь молчал, уверенно двигаясь за сыном по много раз хоженному пути, сворачивая в нужных местах, обходя колонны, поднимаясь на ступени.
В приемной палате, когда сам князь сел на широкую, покрытую темно-красным сукном лавку, он начал разговор:
— Помнишь, отче, мое обещание, что дал я тебе в твоей обители?
Мартиниан опустил голову и тихо, но внятно произнес:
— Неизреченна милость Божия, что изливается на нас, грешных, через тебя, великий князь.
— Растрогал ты сердце мое тогда,— продолжил Василий Васильевич,— и сказал я: если поможет мне Господь снова занять великий стол, не забуду я ни игумена Трифона, ни тебя, отче. Ибо сильно поддержали вы меня в горести моей, грех мой великий клятвопреступления на себя взяли, не убоялись ни кары небес, ни земного наказания от злодея Ше-мяки. Ныне сел я снова с Божьей помощью на великий стол, и враги мои бегают от меня по разным землям. Хочу я, чтобы ты, отче, как и Трифон-игумен, был возле меня, чтобы мог я в трудную минуту обратиться к твоей духовной помощи. Хочу, чтобы наставлял ты меня мудрым советом и дарил свое благословение, чтобы через тебя Благодать Божия была на мне, моем доме и моем великом княжении. Василий прервался на мгновение, как то по-особому выпрямился на лавке, так что стал казаться выше ростом, и заговорил медленно и торжественно:
— Желал бы я, отче Мартиниане, чтобы принял ты под свою праведную руку обитель отца нашего преподобного Сергия, чтобы стал игуменом монастыря Пресвятой Троицы, мудрым наставником для иноков обители.
Отец Мартиниан смутился духом: великая это честь — стать настоятелем монастыря преподобного Сергия Радонежского. Обитель велика, живет по заветам святого старца, игумена всей земли Русской, и ученика его преподобного Никона. Их святое житие всем известно, их благочестие выше всякой меры, их монашеские подвиги служат примером для других иноков. А он кто?.. Неприметный игумен маленького северного монастыря... Грешный раб Царя Небесного, ничем особенным не отличившийся и никаких заслуг не имеющий...
— Что молчишь, отче? — строго спросил великий князь, в голове которого мелькнула мысль: может, обиделся игумен, что мала честь предложена?
Мартиниан склонил голову, опираясь на свой игуменский посох.
— Недостоин я по грехам моим этой великой чести. Удалиться бы мне в пустынь подальше от людей и жить там в безмолвии, замаливая грехи свои и человеческие, прославляя Господа нашего, Его Пречистую Матерь и всех святых угодников да вымаливая спасение перед Судом Божиим.
— Молился ты уже, отче, в пустыни,— сказал великий князь, показывая, что знает многое из жизни белозерского игумена.— Как преставился преподобный Кирилл, сколько ты жил вдали от людей?
— Долго жил,— ответил Мартиниан.— Подвизался в молитве Господней на озере Воже, на острове. Был один, пока не стали вокруг собираться монахи, чтобы вместе спасаться.
— Жизнь твою праведную знаем,— сказал Василий Васильевич,— перед подвигами твоими монашескими преклоняемся, смирение твое хвалим. Только и обители преподобного Сергия без игумена нельзя. Нет сейчас там настоятеля, иноки просят дать им достойного. Ты, отче, скромен, но в делах игуменских не новичок, обитель Ферапонтова при тебе расцвела, иноков стало больше, и слава о тебе не только по всему белозерскому краю идет, но и до стольного града Москвы докатилась.
— Зря возносят меня, недостойного. Напрасно лелеют гордыню мою, ибо только Господь да я сам знаем, как малы подвиги мои, как ничтожны заслуги, как тяжело для меня игуменство в обители. Трудно мне, грешному, управлять и наставлять других иноков в их жажде спасения.
Великий князь не сердился на белозерского игумена, терпеливо слушал, ибо знал, что будет отказываться. Зная, что прикипевшему душой к одному месту трудно менять его на другое. Ведал, что Мартиниан — северянин, ему белозерский край мил и привычен, как отчий дом. Это все равно что девке выходить замуж — и надо, и страшно, и дома родного жаль.
— Соглашайся, святой отец, не отказывайся,— мягко сказал Василий Васильевич.— К тебе через преподобного Кирилла от самого радонежского чудотворца ниточка тянется. Как святой отец наш Сергий выделял среди многих инока Кирилла и приходил беседовать с ним в Симонов монастырь, так и преподобный Кирилл выделял тебя из многих, учил, и наставлял, и в келье своей держал...
— Не по заслугам моим выделял меня преподобный, а токмо по доброте своей,— возразил Мартиниан.
Но великий князь перебил его:
— Видно, провидение Божие поставило тебя, отче, на моем пути. Связан ты с угодниками Божиими, что молят сейчас Господа за нас. Иди и ты по их пути, и дай Бог стяжать тебе такую же милость Господню, какую стяжали преподобные Сергий и Кирилл. Хочу услышать согласие твое. Отец Мартиниан тихо ответил:
— Воля Господа на все. Соглашаюсь я на этот трудный шаг, но об одном прошу Спасителя, и Его Пречистую Матерь, и всех святых: если неугодно им это, пусть дадут знак — и удалюсь я в пустынь, в глухие северные леса, чтобы безмолвствовать и молиться, прославляя Господа.
Едва покончили с главным делом, в палату вошел боярский сын и доложил:
— Прибыл боярин Михаил Сабуров, от князя Дмитрия Шемяки.
— Зови! — коротко приказал князь.
Пока боярский сын ходил за послом, Василий Васильевич объяснил:
— Посылал я своего боярина Василия Кутузова к князю Дмитрию, просил о матери своей, великой княгине Софье. Шемяка, вишь, захватил ее в Чухло-ме и не отпускает. Поехал боярин Кутузов к князю Дмитрию, изложил то, что я велел, а тот все это время думал. Теперь посмотрим, что надумал...
В палату вошел худой, черноволосый Михаил Сабуров, боярин Шемяки. Был он скор, резок в движениях. Быстро вошел, быстро преклонил колено и быстро встал, непочтительно. А и то — был он слугой не великого князя, а Шемяки.
— Буди во здравии многие лета, великий князь,— скороговоркой произнес он.— Князь Дмитрий Юрьевич, брат твой, обдумал все со своими боярами.
— И что решил князь Дмитрий? — нетерпеливо спросил Василий Васильевич.
— Велел он тебе сказать следующее: «Брате, что мне томить не тетку, но и госпожу свою, великую княгиню, в плену? Сам бегаю, а люди себе надобны, и уже истомлены они, а еще и ее стеречь? Лучше отпустить ее».
Великий князь встал с лавки, да не решился шагнуть вперед, только нетерпеливо спросил:
— Где же мать моя, великая княгиня Софья?
— Со мной проделала почти весь путь, сейчас приближается к Троицкому монастырю. Я же вперед ускакал, чтобы сообщить великому князю новость радостную. С ней сейчас боярин Василий Кутузов со своими людьми.
— И то, весть и вправду хорошая,— согласился Василий,— За такую весть и пожаловать тебя не грех, да не знаю, чем.
Тут боярин Сабуров пал разом на оба колена.
— О милости прошу великой!
— Проси,— разрешил князь.
— Челом бью великому князю: разреши остаться служить тебе!
— А Шемяка как же?
— Хочу служить великому князю,— снова быстро сказал боярин Сабуров и пал ниц к ногам Василия, касаясь лбом пола.
Великий князь по слепоте своей неожиданно шагнул вперед, наступил нечаянно на разметавшиеся по полу волосы простертого боярина, тот невольно дернулся, и великий князь пошатнулся. Слуга кинулся к нему, чтобы поддержать.
Однако Василий Васильевич не рассердился, только усмехнулся невесело:
— Эх, боярин, еше и на службу не заступил, а уж свалить норовишь...
Сабуров поднялся, побелел лицом.
— Прости, княже, не хотел...
— Бог простит,— все так же невесело, с усмешкой, сказал великий князь.— Оставайся, дело тебе найдем.
А перед Мартинианом похвастался:
— Не первый уж боярин от князя Дмитрия ко мне перебегает... Всех принимаю... А вот ежели от меня пойдут...
Брови его нахмурились, скулы сжались и губы вытянулись тонкой нитью.
Сабуров порозовел лицом и осторожно приложился губами к руке Василия.
— Ну, отче, вместе к Троице поедем! — уже весело закончил разговор великий князь. Потом подумал немного и переменил свое решение.
— Нет, отче, ты сейчас здесь, в Москве, нужен. Нареченный митрополит наш Иона готовит послание против Шемяки. Завтра прибудут владыки Суздальский и Ростовский, архимандриты... Тебе как игумену Сергиевой обители с ними встретиться надо, а допрежь всего епископу Рязанскому, Ионе-митрополиту поклонись... Слыхал я, силен ты в книжном деле. Вот и помоги иереям своим мудрым советом... Составьте такую духовную грамоту, чтобы братанича моего за душу взяло, чтобы отказался он от притязаний на великокняжеский престол и не мутил больше народ в наших землях...
— Сделаю, господине, что смогу... Мне ли, худородному, встревать в дела владык?!
В голосе Мартиниана чувствовался испуг, и князь чутким ухом уловил его.
— Не пужайся, отче. Бог тебя умом не обидел и благостью своей не обошел. Встретимся в обители Сергиевой или здесь, в Москве, если раньше вернусь.
Василий Васильевич склонился перед отцом Мар-тинианом, тот благословил великого князя, и слуга повел игумена в отведенный ему покой. Время было позднее, и по всем правилам монашеской жизни надлежало инокам сейчас молиться в своих кельях.
Рязанский епископ Иона, которого давно уже считали митрополитом, был красивым, высоким, велеречивым и громкогласным, как и положено первейшему из святителей. Почитали его как духовного владыку удельного княжества, близкого к Москве и поддерживающего великого князя, но особенно усилилось его влияние после известного случая с детьми Василия, когда уговорил Шемяка епископа взять детей великого князя от Ряполовских на свою епитрахиль, обещая освободить их вместе с отцом. Нарушил тогда свое слово князь Дмитрий, заточил детей вместе с отцом в Угличе. Такого бессовестного обмана владыка стерпеть не мог и каждый день обращался к Шемяке с упреками, что тот неправду учинил, сам солгал и архиерея солгать заставил. Пугал карой небесной, вечными муками ада, грозил оставить без благословения.
Не выдержал Шемяка, сдался, выпустил Василия из Углича с детьми. На свою же голову отпустил из пленения...
В одном, пожалуй, прав был князь Дмитрий: повелел рязанскому епископу идти в Москву и занять митрополичий престол. Да и то не его воля на то была. Еще раньше, в 1431 году, когда умер митрополит Фотий, великий князь Василий Васильевич созвал архиепископов, епископов и весь освященный собор и велел им из своей среды избрать достойного на Русскую митрополию. Выбор пал на Иону, епископа Рязанского и Муромского, который много проповедовал по своей епархии, крестил язычников, ставил церкви и заслужил любовь паствы.
Избранный святитель отправился в Царьград с посланием от великого князя к царю Иоанну Палеологу и патриарху Иосифу для посвящения в митрополиты.
Однако некий Исидор из болгар упредил его. Когда Иона прибыл в Константинополь, тот уже был утвержден на русскую метрополию.
Святитель Иона все-таки представил царю и патриарху грамоту от великого князя. Они изъявили сожаление, что поспешили с назначением Исидора, но сделать ничего уже было нельзя. Сказали владыки Царьграда епископу Ионе: «Не можем мы изменить уже свершившееся, но если что промыслит Воля Бо-жия об Исидоре — или смертью он скончается, или что иное с ним станет — ты, Иона, будешь готов и благословлен на престол Киевский и всея Руси».
Поскорбел святитель Иона, что безуспешно ходил в Царьград, однако смирение свое не преступил и вернулся на Русь как простой епископ, подчиняясь во всем Исидору, восхитившему престол его. Смиренная преданность воле Божией не оставляла владыку все эти годы.
Много событий истекло с тех пор, как побывал епископ Иона в Царьграде. Прошел Флорентийский собор, тянувшийся почти семь лет. Спорили на нем православные и католики, и встал русский митрополит Исидор на сторону католиков. Возвратившись в Москву, вошел он в стольный град 19 марта 1441 года, неся перед собой латинский крест, называемый на Руси «крыж». Привез Исидор и послание Василию II от самого папы римского Евгения, который радовался тому, что теперь восточная и западная церкви едины.
После богослужения в Успенском соборе приказал Исидор дьякону с амвона прочитать акт унии, заключенной между греческой и римской церквами. Все присутствующие молчали, пораженные.
Лишь великий князь Василий Васильевич первым распознал предательство Исидора, не принял благословения от руки его, срамил и вместо пастыря и учителя называл еретиком волкохищным. Затем повелел свергнуть неверного с митрополичьего престола как отступника и заточить его в монастыре.
Но хитрый Исидор недолго пробыл в оковах. Через несколько месяцев бежал он в Литву, к князю Казимиру, оттуда — к папе в Рим. Глава католического мира оценил бывшего русского митрополита, возвел его в сан пресвитера-кардинала, а в конце жизни наградил титулом патриарха.
Русский митрополичий престол оставался без владыки, Иона же именовался нареченным митрополитом. И все испытывали неудобство от того, что не знали, как именовать владыку. Епископом — вроде низковато, митрополитом — высоковато.
Вот и отец Мартиниан, собираясь к владыке, раздумывал, как обращаться к святителю. Решил, что будет называть его митрополитом. Ибо Божий промысл давно указывал на то, что быть Ионе во главе русской церкви. Высшие архиереи и священники, игумены и монахи помнили, что когда однажды митрополит Фотий пришел в Симонов монастырь и увидел в пекарне спящего молодого инока Иону с рукой, сложенной, как у благословляющего архиерея, то сказал: «Сей инок будет великим святителем в странах российских, много неверных на путь истинный наставит и в разум истины приведет, сему же граду Москве и многим другим городам будет истинный пастырь и учитель».
Когда отец Мартиниан вошел в большую митрополичью палату с крестообразными сводами и скромным иконостасом на восточной стене, приготовления к составлению духовного послания князю Дмитрию Шемяке уже закончились. Владыки сидели по стенам на стульях с высокими спинками. Митрополичий стул с подлокотниками, резной и украшенный, был развернут лицом к иконостасу. Рядом стоял стол, покрытый зеленым сукном, и за ним на низкой скамейке сидел дьяк с листами пергамена, резной металлической чернильницей и набором гусиных перьев.
Дьяк, видно, уже читал что-то: перед ним лежало раскрытое Евангелие. Увидев входящего священно-инока, он остановился. Отец Мартиниан подошел к святителю Ионе под благословение, поцеловал его руку и пожелал владыке многих лет по воле Божьей. Тот встретил прибывшего ласково. Назвал его, чтобы все знали, кто перед ними, нарек новым игуменом Троицкого монастыря, коротко рассказал об иноческих подвигах Мартиниана, об основанной им обители на озере Воже и об игуменстве в Ферапонтовой монастыре. Особо подчеркнул связь с Кириллом Белозерским, а через него — и с самим богоносным отцом нашим преподобным Сергием, Радонежским чудотворцем. Потом перечислил присутствующих в зале: Ефрема, владыку Ростовского; Авраа-мия, владыку Суздальского; Варлаама, владыку Коломенского; Питирима, владыку Пермского... Были здесь архимандриты и игумены московских и ближних к Москве монастырей, но Иона назвал только одного — Геронтия, архимандрита Симоновского монастыря, посчитав, что других Мартиниан узнает позже сам.
Молитвы, с которых положено начинать всякое важное дело, уже были произнесены.
Иона взял со стола Евангелие с заложенными страницами и стал читать его сам. Мартиниан узнал отрывок из Послания святого апостола Павла к Ефесянам и удивился, как точно и к месту пришелся он здесь. Иона, красивый и высокий, читал тоже красиво, и сильный бархатный голос его заполнял всю палату.
— Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диа-вольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие.
Архиереи стоя слушали апостольское наставление, и когда Иона кончил читать и провозгласил «Аминь», все дружно выдохнули это евангельское восклицание, означающее конец любой молитвы, и уселись по своим местам.
Затем Иона кивнул дьяку:
— Начни сызнова.
И дьяк начал читать.
— Господину князю Дмитрию Юрьевичу...
Далее шло перечисление присутствующих, которые потом и должны были подписать это послание. Отец Мартиниан, слушая, как дьяк называет всех владык, удивился, что Иона был поименован владыкой Рязанским, а не митрополитом. Это пришлось по душе северному игумену: незаносчив Иона, власть свою не показывает, не рвется к ней, хотя и утвержден в самом Царьграде на митрополичий престол.
Епископ Иона остановил дьяка:
— Постой, здесь приписку сделать надо: посла Геронтия Симоновского впиши — Мартиниан, игумен Сергиева монастыря...
Дьяк быстро сделал поправку в тексте и продолжал длинное перечисление всех владык, архимандритов, игуменов и священников святых Божиих церквей, которые бьют челом и благословляют князя Дмитрия Юрьевича.
— А пишем к твоему благородию, по своему долгу, попечение творя о твоем единородной и бессмертной душе...
Дьяк, который, видно, и сочинил послание, попался велеречивый, словеса цеплялись одно за другое, предложения выстраивались длинные, а читал он гундосо и единообразно, так что Мартиниан в этом словесном плетении многого не улавливал.
После вступления вспомнили Божественное Ветхозаветное Писание, праотца Адама и душегубного супостата, врага всему роду человеческому диавола, внушившего Адаму мысль о непослушании Создателю. Прочитали, как Адам восхотел равен быть Богу в разумении, отчего был осужден и изгнан из Рая. И как древний праотец Адам стремился к обожению, так и отец Шемяки князь Юрий Дмитриевич огромное стремление имел к великому княжению. В Орду к царю ордынскому ходил, и сколько трудов положил, но всему православному христианству от этого истома и великие убытки были. И все-таки великого княжения князь Юрий не достиг, отдал ордынский хан ярлык Василию Васильевичу.
— Написать, как велел татарский царь князю Юрию коня под Василием вести? — прервал дьяка Ефрем Ростовский.
— Не надо,— возразил Иона.— Не захотел тогда великий князь унизить своего родственника, не велел коня под собою вести, ну и нам поминать о том нечего. Только во гнев вводить Шемяку.
Все согласились, что упоминать об этом унижении отца Дмитрия не стоит, и дьяк продолжал читать дальше о том, как, не уймясь, собрал к себе Юрий Дмитриевич злых и кровопролитных людей да согнал племянника с великого княжения, но недолго правил — снова позвал Василия Васильевича на великое государство, а сам всего с пятью человеками из Москвы съехал. Не успокоился на том, второй раз пришел в Москву, снова сел на великий стол как разбойник, а вскоре и помер. Захотел тогда старший сын Юрия Василий Косой княжения великого, но не от Божьей помощи, а от своей гордости и высо-комыслия.
— Сколько крови христианской пролил, и священников, и черноризцев погубил и извел? — с чувством восклицал писчий дьяк, и все архиереи согласно кивали головами.
Вспомнили далее, как пришел к Москве безбожный царь Махмет, стоял у самого града, и князь великий Василий Васильевич скольких послов посылал к Шемяке, сколько грамот написал, зовучи братанича к себе на помощь.
Снова с великим чувством и с покрасневшими глазами дьяк громко, на всю большую палату возопил:
— И ты к нему не пошел, и в том сколько крови христианской пролилось, и сколько много христианства в полон в поганство пошло, и сколько святых Божиих церквей разрушилося, и сколько черноризиц осквернено и девиц растленено!
Начав перечислять зловредные дела Шемякина семейства, сочинявший послание дьяк, видно, никак не мог остановиться и написал еще о битве под Суздалем, когда безбожные татары приходили на православное христианство; о том, как посылал брат старейший, великий князь, послов к Дмитрию, звал брата-князя помогать. Но тот ни сам не поехал, ни воевод своих с людьми не послал. И за ту кровь христианскую, и за уведенных в полон Бог с него взыщет.
Читающий дьяк так расчувствовался, что по щеке его скатилась слеза, утопая в густой пегой бороде.
Далее вспоминалось, как пришел Василий Васильевич из татарского плена, как опять вооружил диавол Дмитрия Шемяку желанием самоначальства и как сотворил Шемяка с великим князем зло, не меньше братоубийцы Каина или Святополка Окаянного. А много ли господствовал? Много ли в тишине прожил сам? Все в суете и в прескакании от места до места, дни и ночи томимый своими помышлениями...
— Ища и желая большего, и меньшее свое изгубил,— снова твердым голосом читал дьяк.— А Божию благодатию и неизреченными Его судьбами, брат твой старейший князь великий опять на своем государстве: поскольку кому дано что от Бога, того не может у него отняти никто...
Вспомнили милость и доброту Василия Васильевича к Шемяке, который снова — уж в какой раз! — восстал против уже ослепленного им брата.
— А не показал бы тебе брат твой старейший князь великий милосердие свое, то пришел бы ты сам к своей погибели со всеми своими... Но как ему Бог...
— Постой, постой, не торопись,— перебил своим рокочущим басом епископ Рязанский Иона.— Грамота наша от духовенства, надобно Священное Писание да Отцов церкви почаще поминать. После слов о погибели вставь слова: «вселилась бы в ад душа твоя».
Дьяк вписал слова, продиктованные Ионой, и перечитал весь кусок заново. Получилось более убедительно.
Тот же епископ Иона, которого уже раз обманул Шемяка в истории с детьми великого князя, потребовал, чтобы в письме были точно перечислены все пункты грамот с обещаниями Шемяки: быть во всем заодно с великим князем, его друзей считать своими друзьями, а врагов — своими врагами, не обижаться и не выступать ни против великого князя, ни против его детей, в Орду не ходить, ибо сношения с Ордой — дело великого князя, отдать семье государевой всю казну и поклажи, и честные кресты, и святые иконы, где бы их ни взял. Грамоты эти были в разные времена подписаны Шемякою, но уж таков был, видно, его норов: не мог забросить он мысли о великом княжении. Вот и писали духовные власти, что поразила его душевная слепота, что объят он са-мовозлюблением особым или златолюбством. Упрекали иереи Дмитрия, что «сквернит он их святые епитрахили неподобными своими богомерзкими речами, а епитрахили святые есть воображение муки Господа нашего Иисуса Христа, которые тот терпел при распятии».
Тут же прибавили, что святые епитрахили никакими речами не могут оскверниться никогда, но сам Дмитрий душу свою погубит...
Винили Шемяку и в том, что, забыв недавно подписанные в присутствии многих архиереев грамоты, он ссылается с иноверцами, с погаными татарами и с другими многими землями, снова собирая войско против великого князя, замысливая погубить и его самого, и его детей, и все православное христианство разрушити. Укоряли в нарушении крестного целования, в злохитроствовании против великого князя и обещали, что все неустройства и слезы христианские на нем же будут.
Шемяка и вправду рассылал своих послов и в Новгород Великий, и к князю Ивану Андреевичу Можайскому, и к вятчанам. Направлял даже в Казань к царевичу Мамотяку, и оттуда посол татарский пришел к Шемяке договариваться. Знали, что и поныне князь Дмитрий держал его у себя. Великий князь посылал своих людей с просьбой отдать посла Мамотякова, но Шемяка татарина не отпустил и не разрешил посланцам Василиевым даже видеться с ним.
Вот и получилось, что князь Дмитрий крестное целование не исполнил, и казну брата своего, и его матери, великой княгини, и его жены не вернул, да и что взял у бояр — все себе оставил. Прошел уже месяц, как по договорной грамоте надо было исполнить все это. Шемяка схитрил и на этот раз: нечто малое от казны великого князя и его семейства отдал, а все лучшее, большее не вернул, да и всю святость — кресты, иконы, утварь — у себя оставил.
Не понравился отцу Мартиниану конец духовного послания: уж больно смиренно молили архиереи Дмитрия исправиться: «Пожалуй, господине, побереги свою душу и свое христианство и крестное свое целование...»
Просили отдать все, что не отдал Шемяка Василию, да призывали к чистому покаянию.
— А мы, господине, ваши богомольцы, по своему долгу били за тебя челом своему господину, а твоему брату старейшему великому князю; и господин наш великий князь, как ему Бог положил на сердце, нашего слова своих богомольцев послушал, а тебя, своего брата, жаловати хочет и в братстве, и в любви держати по старине...
— Хитер и жаден Шемяка, и наши просьбы не затронут души его,— тихо сказал Мартиниан.
Все повернулись к нему, словно удивившись тому, что этот смиренный игумен с далекого Севера подает свой голос.
— Так чего ж ты хочешь, отче? Изменить или добавить что?
— Изменять не надо. Вам виднее, как с князьями обращаться. А добавить бы надо... Священное Писание вспомнить, дабы, читая это послание, проникался князь Дмитрий боязнью наказания за грехи свои.
— Говори, говори, отче,— поторопил его дьяк.— Я запишу.
— А вот пусть вспомнит князь Дмитрий великого библейского царя Давида, который еще юношей был помазан пророком Самуилом на царство, но не хотел воцариться, пока не умер царь Саул. Велики были его заслуги перед Господом: отвоевал он у иевуссеев город Иерусалим, и поселился там, и перенес туда Ковчег Завета. Расширил он Израильское царство, так что стало оно самым сильным на Востоке. Однако вспомните, как омрачились последние годы царствования Давида, какой гнев Божий навлек он на себя за свои грехи и слабости. Господь в гневе своем послал язву на его страну, и умерло израильтян семьдесят тысяч человек... Потом послал Бог Ангела в Иерусалим, и тот начал истреблять город... Увидев Ангела, стоящего между землей и небом с обнаженным мечом в руке, Давид взмолился Богу: «Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! Да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе твоем, чтобы погубить его». И только тогда смилостивился Господь над Давидом.
— Пиши, пиши, дьяк, о Давиде, сколько плакался Богу о своих согрешениях,— сказал Иона Рязанский и, обратясь снова к игумену Мартиниану, спросил:
— Еще, отче, что хочешь добавить?
— Да и о царе Навуходоносоре можно вспомнить, у которого в плену был пророк Даниил. Царь вавилонский, расхаживая по царским чертогам, сказал, возомня себя выше Бога и похваляясь: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силой моего могущества и во славу моего величия!» И еще речь его не была закончена, как раздался с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!» Страшная болезнь тут же поразила всесильного прежде царя. Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти — как у птицы. И лишь когда прошло время и умолил о нем Бога пророк Даниил, понял царь, что нет никого, кто мог бы противиться руке Всевышнего. И славил, и превозносил, и величал он Царя Небесного, все дела которого истинны, и пути праведны и который силен смирить ходящих гордо...
Все слушали и согласно кивали головами: тексты Ветхого Завета духовенство знало хорошо, да и князья, верно, его помнили. Потому дьяк записал кратко и тут же прочитал:
— Також и Навуходоносор царь о создании града Вавилона похвалися, а сколько за то пострадал, яко вол ходя и траву ядый. Но умолил о нем Бога пророк Даниил, и в человеческое чувство претворил его Бог, и тот покаялся.
Мартиниану не очень понравилась эта краткая запись, но спорить он не стал. Есть здесь иереи старше и опытнее его, первое слово за ними, а если они молчат, и ему негоже встревать.
И только после того, как епископ Рязанский Иона еще раз обратился к нему, Мартиниан предложил включить в послание такой эпизод:
— Вспомнить можно также и Григория Просветителя, который попал в заточение к армянскому царю Тиридату. Тот приказал в гневе бросить Григория к ядовитым змеям и воздвиг жестокое гонение на христиан. Но гнев Божий накрыл нечестивого царя: безумие постигло его, и ходил он несколько лет, поедая нечистоты. Лишь когда узнал он о Григории, что тот жив, когда сведал, что одна благочестивая христианка поддерживала его жизнь, принося пищу, помиловал он Григория и сам был исцелен по молитвам святого от безумия. Покаялся царь, крестился сам и все царство свое крестил. После этого благодаря трудам святого Григория вся Армения стала христианскою, и был это четвертый век по Рождеству Христову...
— Большим знатоком в книжных делах показал себя новый Троицкий игумен,— сдержанно похвалил епископ Иона отца Мартиниана.— Сейчас в обители живет приезжий монах, серб Пахомий, книжник и составитель житий святых. Соединитесь для общего дела, напишите новое житие преподобного Сергия. Старое, Епифаниево, очень уж мудрено и витиевато, читать трудно...
Отец Мартиниан склонил голову, и епископ Иона перекрестил его, благословляя на новые труды.
Затем рязанский епископ дал знак дьяку докончить чтение грамоты. Тот быстро прочитал только что сочиненный кусок о том, что можно много примеров приводить из Священного Писания, но князь Дмитрий Юрьевич и сам его хорошо знает, потому может вспомнить многое, о чем в послании не говорится. Дьяк произнес этот связующий кусочек быстро и негундосо, а в меру громко и четко. Зато последние строки, как наиболее важные, затянул высоким голосом с подвываниями, чтобы все поняли, что здесь-то и записано самое главное.
— А если захочешь пребывать в своем жестокосердии и не в покаянном сердце, и не захочешь обратиться ко Всемогущему Богу с чистой совестью, а захочешь лиха великому князю и его крови, и будешь стремиться к христианскому неустроению и погибели, и нарушишь то, на чем целовал честный и животворящий крест к своему брату старейшему, к великому князю Василию Васильевичу, то сам на себя наложишь тягость церковную духовную, и чуждым будешь Богу, и церкви Божией, и православной христианской вере; не будет на тебе малости Божией и Пречистой Его Матери, и в конечную погибель пойдешь с богомерзкими еретиками. И не будет на тебе нашего смирения, святительского и священнического благословения и молитвы ни в сей век, ни в будущий.
Ни добавить, ни исправлять ничего уже не стали, только подписались все по очереди. Первым поставил свое имя новый троицкий игумен Мартиниан как самый младший в той иерейской лестнице, которая негласно соблюдалась присутствующими. А может, нареченный митрополит, епископ Рязанский Иона так захотел отметить государственную мудрость и книжные познания иеромонаха, только что прибывшего из Белозерского края.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
БИТВА ПОД ГАЛИЧЕМ И «СКОРЫЕ ТАТАРЫ»
(Из русских летописей)
Не было, не было покоя в Русской земле. Чуть ли не каждое лето шли татарские полчища на Москву, и великий князь должен был отражать их набеги, собирать войска, звать на помощь других князей, и терять лучших воевод и воинов на полях бранных сражений.
А тут еще князь Дмитрий Шемяка баламутил русские земли, никак не желая отказаться от великого княжения. Весной 1449 года князь Дмитрий, преступив крестное целование и взятые на себя обязательства, пошел со многою силою к Костроме. Битва под городом была жестокая, кровопролитная, но ничего не добился коварный Шемяка, ибо был город надежно защищен князем Иваном Васильевичем Стригой и Федором Басёнком, который верно служил великому князю и уже не раз помогал ему своей храбростью и воинскими талантами.
Василий Васильевич, взяв с собой митрополита Иону, который год назад стал из владыки Рязанского главным иерархом на Руси, взяв епископов и всю братию свою вместе с царевичами, пошел к Волге. На берегах великой реки князь Дмитрий снова смирился перед великим князем. А у того в июле месяце родился еще один сын, нареченный Борисом.
Татары же в то лето дошли до Пахры и княгиню Василия Оболенского тогда взяли, и много зла учинили христианам, секли и в полон вели. Царевич же Касым, услышав про это, пошел против них из Звенигорода. Испугавшись, рассыпались они по Русской земле, и кого Касым встречал, тех бил и полон отнимал. Татары же, увидев это, бежали назад.
На следующий год снова ходил великий князь на Дмитрия, который метался по северным землям: то бежал к Вологде, то воротился к Галичу. Доносили соглядатаи, что людей у князя Дмитрия много, рать пешая большая, и пушки он готовит и конников. Князь же великий, услышав то и положив упование на Господа Бога, Пресвятую Матерь Его и на великих чудотворцев и надеясь на силу честного креста, стал посылать своих князей и воевод к Галичу. Большим был воевода князь Василий Иванович Оболенский, но и прочих князей и воевод было великое множество. Потом отпустил и царевичей и всех князей, что служили им.
В конце января пришли под Галич, а князь Дмитрий уже стоял на горе под городом со всею своею силою и не отступал ни шагу с того места. Воеводы великого князя пошли с озера к горе, опасаясь, что гора очень крута. Однако вышли на гору, а с горы сошли уже вместе с врагом. И была сеча зла, но помог Бог великому князю: многих побили, а лучших всех «изнимаша руками». Сам князь Дмитрий едва убегал, потеряв почти всю пешую рать. Город же затворился.
Великий князь был в Бороке, когда к нему пришла радостная весть о победе. Возблагодарил он Бога и Пречистую Матерь Его, и великих чудотворцев, совершил молебен в церкви святого Иоанна Предтечи и пошел к Галичу.
Граждане города предались в его руки. Василий Васильевич, «град омирив», посадил там своих наместников и пошел к Москве. И пришел на Москву на Масленой неделе, а Шемяка убежал к Новугороду Великому.
Той же зимой преставился князь Василий Юрьевич Патрикеев в чернецах и в схиме, в месяце январе.
На Москву привезли колокол велик с Городка с Низу. Того же лета заложена была церковь каменная на Москве во имя Воздвижения честного Креста Господня, заложил ее гость Володимир Ховрин и повелел обложить около кирпичом, а изнутри белым камнем. Того же лета преосвященный митрополит Иона заложил палату каменную на Москве, на своем дворе пред дверьми Святыя Богородицы, и церковь в палате во имя Пресвятая Богородицы Положения честных Ее риз, которые празднуются месяца июля во второй день. Того же лета было чудо страшное во граде Москве: месяца августа в 5-й день, пред вечернею за один час, внезапно пришла туча с востока на град, и был гром страшен; по разгневанию Господа Саваофа, по умножению грехов христианских, прострелил гром верх у церкви у каменной святого Михаила Архангела на площади, и пошла стрела в церковь, и было чудо страшное, даже сказать невозможно, как ходила по церкви.
Того же месяца августа в 13-й день пришла туча от западных стран на град Москву и ветер велик очень, и сломило крест у церкви святого Архангела Михаила на площади.
Той же осенью пришли татары из поля на Рязань, и послал князь великий Василий Васильевич рать свою на них, воеводу Константина Александровича Беззубцева; и был им бой, и помог Бог князю великому Василию Васильевичу, побили татар множество и прогнали их снова в поле. Но убили в том сражении храброго воина, приближенного царя Ро-модана Зиновьева.
Да не было угомону безбожным татарам: в следующее же лето пришла великому князю весть, что снова идет на нас изгоном царевич Мазовша из орды Седи-Ахмата. Не успев как следует собраться, пошел Василий Васильевич против него к Коломне. По дороге получил он новую весть, что татары уже близ берега Волги.
Воротился великий князь к Москве, а всех своих людей отпустил с князем — воеводой Иваном Звенигородским, чтобы быстро переправились через реку Оку. Тот же, убоявшись, вернулся назад иным путем, а не за великим князем.
Василий Васильевич, осадив город, посадил в нем мать свою Софью, да сына своего князя Юрия, и множество бояр и детей боярских. Оставил здесь и митрополита Иону, и архиепископа Ростовского Ефрема, и весь чин священнический и иноческий, а также множество народа града Москвы.
Сам же он ушел из города с сыном своим великим князем Иваном, свою княгиню с младшими детьми отпустил в Углич. Заночевав в Озерецком, пошел он оттуда к Волге.
Татары стояли тогда у берега, ожидая против себя рати, но ее не было. Послали сторожей на эту сторону Оки. Они обыскали все кругом, ничего не нашли и, вернувшись, поведали, что нет противящихся им. Перевезли войска через Оку-реку, устремились к Москве и пришли в нее в пятницу, во 2-й день июля, на Положение ризы Пресвятой Богородицы, в час дня. В един час зажгли все посады, а сами в это время начали со всех сторон подступать к городу. Тогда засуха была великая, и огонь объял город, и храмы загорелись, и от дыма невозможно было ничего разглядеть, и враги подступили ко всем вратам, где не было каменных крепостей.
Град пребывал в великой скорби и печали и в большом недоумении, ибо ниоткуда не было никакой помощи. Со слезами молились Господу Богу и Пречистой Матери Его, крепкой помощнице и молебнице к Сыну своему и Богу нашему, тем более что тогда же подоспел и праздник Ее — Положение ризы. Молились и всем великим чудотворцам, надеясь на их заступление и предстательство перед Господом. Когда посады погорели, все бывшие во граде ослабели от великой истомы огненной и дыма. Однако вышли из града и стали с противниками биться.
Уже в сумерках отступили татары от города, а горожане стали готовить к утру «градной пристрой» против безбожных. Готовили также пушки, пищали, самострелы, оружие, щиты, луки и стрелы — все, что подобает к брани.
Восходило солнце. Горожане, готовящиеся к сражению с противником, ничего не видели. Вышли из града, посмотрели направо и налево, и опять никого не узрели. Послали вестников в татарские станы. Вернувшись, те объявили, что никого не нашли, как будто татар разметала какая-то сила, оставив только медь, железо и множество прочего товара. Огонь же угас.
Рассказывали, что отступили татары от города, почувствовав вдруг великий страх и трепет. Будто увидели они некое великое воинство, идущее на них, и кинулись прочь, гонимые гневом Божиим и молитвами Пресвятой Матери Его, великих чудотворцев и всех святых. Бежали они, бросив тех, которых взяли раньше в полон, и не уклонялись ни вправо, ни влево, только бы скорее убежать от грядущего на них гнева.
Услышав сие, все бывшие во граде люди воздали хвалу Богу и Пречистой Матери Его, скорой помощнице, и великим чудотворцам, молебны совершая и благодаря за ограждение от грядущих на них всевозможных зол.
Великая же княгиня Софья в тот же час послала за сыном своим Василием, который в ту пятницу на восходе солнца был перевезен за Волгу в устье Дубны. Услышав великую радостную весть, князь заплакал и, благодаря Господа Бога и Пречистую Матерь Его и всех святых, в тот же час возвратился к Москве. Войдя во град, пришел он в церковь Пресвятой Богородицы и пал перед образом Владычным, многие слезы изливая и говоря: «Благодарю тебя, Владыко, что не предал стадо твое православных христиан этим безбожным сыроядцам». Так же и перед образом Пресвятой Богородицы пал, плакал и молился, потом стоял на коленях у гроба чудотворца Петра. Совершив молебен, принял князь благословение от руки отца своего Ионы-митрополита. А потом, вышедши из церкви, целовал мать свою, и сына своего Юрия и прочих. Затем пошел по всем соборным церквам, молебны совершая и слезы изливая, благодаря человеколюбца Бога и Пречистую Матерь Его и всех святых за совершившееся чудо.
Утешал великий князь и горожан, говоря:
— Сие нашло на вас моих ради грехов, но вы не унывайте. Пусть каждый из вас ставит дома по своим местам, а я жаловати рад и льготы дам.
Потом вместе с митрополитом, и с матерью своей, и с детьми своими, и с боярами пошел великий князь на обед, и было веселие в тот день, веселие после бывшей скорби, нашедшей на город из-за грехов наших.
(Из русских летописей)
Не было, не было покоя в Русской земле. Чуть ли не каждое лето шли татарские полчища на Москву, и великий князь должен был отражать их набеги, собирать войска, звать на помощь других князей, и терять лучших воевод и воинов на полях бранных сражений.
А тут еще князь Дмитрий Шемяка баламутил русские земли, никак не желая отказаться от великого княжения. Весной 1449 года князь Дмитрий, преступив крестное целование и взятые на себя обязательства, пошел со многою силою к Костроме. Битва под городом была жестокая, кровопролитная, но ничего не добился коварный Шемяка, ибо был город надежно защищен князем Иваном Васильевичем Стригой и Федором Басёнком, который верно служил великому князю и уже не раз помогал ему своей храбростью и воинскими талантами.
Василий Васильевич, взяв с собой митрополита Иону, который год назад стал из владыки Рязанского главным иерархом на Руси, взяв епископов и всю братию свою вместе с царевичами, пошел к Волге. На берегах великой реки князь Дмитрий снова смирился перед великим князем. А у того в июле месяце родился еще один сын, нареченный Борисом.
Татары же в то лето дошли до Пахры и княгиню Василия Оболенского тогда взяли, и много зла учинили христианам, секли и в полон вели. Царевич же Касым, услышав про это, пошел против них из Звенигорода. Испугавшись, рассыпались они по Русской земле, и кого Касым встречал, тех бил и полон отнимал. Татары же, увидев это, бежали назад.
На следующий год снова ходил великий князь на Дмитрия, который метался по северным землям: то бежал к Вологде, то воротился к Галичу. Доносили соглядатаи, что людей у князя Дмитрия много, рать пешая большая, и пушки он готовит и конников. Князь же великий, услышав то и положив упование на Господа Бога, Пресвятую Матерь Его и на великих чудотворцев и надеясь на силу честного креста, стал посылать своих князей и воевод к Галичу. Большим был воевода князь Василий Иванович Оболенский, но и прочих князей и воевод было великое множество. Потом отпустил и царевичей и всех князей, что служили им.
В конце января пришли под Галич, а князь Дмитрий уже стоял на горе под городом со всею своею силою и не отступал ни шагу с того места. Воеводы великого князя пошли с озера к горе, опасаясь, что гора очень крута. Однако вышли на гору, а с горы сошли уже вместе с врагом. И была сеча зла, но помог Бог великому князю: многих побили, а лучших всех «изнимаша руками». Сам князь Дмитрий едва убегал, потеряв почти всю пешую рать. Город же затворился.
Великий князь был в Бороке, когда к нему пришла радостная весть о победе. Возблагодарил он Бога и Пречистую Матерь Его, и великих чудотворцев, совершил молебен в церкви святого Иоанна Предтечи и пошел к Галичу.
Граждане города предались в его руки. Василий Васильевич, «град омирив», посадил там своих наместников и пошел к Москве. И пришел на Москву на Масленой неделе, а Шемяка убежал к Новугороду Великому.
Той же зимой преставился князь Василий Юрьевич Патрикеев в чернецах и в схиме, в месяце январе.
На Москву привезли колокол велик с Городка с Низу. Того же лета заложена была церковь каменная на Москве во имя Воздвижения честного Креста Господня, заложил ее гость Володимир Ховрин и повелел обложить около кирпичом, а изнутри белым камнем. Того же лета преосвященный митрополит Иона заложил палату каменную на Москве, на своем дворе пред дверьми Святыя Богородицы, и церковь в палате во имя Пресвятая Богородицы Положения честных Ее риз, которые празднуются месяца июля во второй день. Того же лета было чудо страшное во граде Москве: месяца августа в 5-й день, пред вечернею за один час, внезапно пришла туча с востока на град, и был гром страшен; по разгневанию Господа Саваофа, по умножению грехов христианских, прострелил гром верх у церкви у каменной святого Михаила Архангела на площади, и пошла стрела в церковь, и было чудо страшное, даже сказать невозможно, как ходила по церкви.
Того же месяца августа в 13-й день пришла туча от западных стран на град Москву и ветер велик очень, и сломило крест у церкви святого Архангела Михаила на площади.
Той же осенью пришли татары из поля на Рязань, и послал князь великий Василий Васильевич рать свою на них, воеводу Константина Александровича Беззубцева; и был им бой, и помог Бог князю великому Василию Васильевичу, побили татар множество и прогнали их снова в поле. Но убили в том сражении храброго воина, приближенного царя Ро-модана Зиновьева.
Да не было угомону безбожным татарам: в следующее же лето пришла великому князю весть, что снова идет на нас изгоном царевич Мазовша из орды Седи-Ахмата. Не успев как следует собраться, пошел Василий Васильевич против него к Коломне. По дороге получил он новую весть, что татары уже близ берега Волги.
Воротился великий князь к Москве, а всех своих людей отпустил с князем — воеводой Иваном Звенигородским, чтобы быстро переправились через реку Оку. Тот же, убоявшись, вернулся назад иным путем, а не за великим князем.
Василий Васильевич, осадив город, посадил в нем мать свою Софью, да сына своего князя Юрия, и множество бояр и детей боярских. Оставил здесь и митрополита Иону, и архиепископа Ростовского Ефрема, и весь чин священнический и иноческий, а также множество народа града Москвы.
Сам же он ушел из города с сыном своим великим князем Иваном, свою княгиню с младшими детьми отпустил в Углич. Заночевав в Озерецком, пошел он оттуда к Волге.
Татары стояли тогда у берега, ожидая против себя рати, но ее не было. Послали сторожей на эту сторону Оки. Они обыскали все кругом, ничего не нашли и, вернувшись, поведали, что нет противящихся им. Перевезли войска через Оку-реку, устремились к Москве и пришли в нее в пятницу, во 2-й день июля, на Положение ризы Пресвятой Богородицы, в час дня. В един час зажгли все посады, а сами в это время начали со всех сторон подступать к городу. Тогда засуха была великая, и огонь объял город, и храмы загорелись, и от дыма невозможно было ничего разглядеть, и враги подступили ко всем вратам, где не было каменных крепостей.
Град пребывал в великой скорби и печали и в большом недоумении, ибо ниоткуда не было никакой помощи. Со слезами молились Господу Богу и Пречистой Матери Его, крепкой помощнице и молебнице к Сыну своему и Богу нашему, тем более что тогда же подоспел и праздник Ее — Положение ризы. Молились и всем великим чудотворцам, надеясь на их заступление и предстательство перед Господом. Когда посады погорели, все бывшие во граде ослабели от великой истомы огненной и дыма. Однако вышли из града и стали с противниками биться.
Уже в сумерках отступили татары от города, а горожане стали готовить к утру «градной пристрой» против безбожных. Готовили также пушки, пищали, самострелы, оружие, щиты, луки и стрелы — все, что подобает к брани.
Восходило солнце. Горожане, готовящиеся к сражению с противником, ничего не видели. Вышли из града, посмотрели направо и налево, и опять никого не узрели. Послали вестников в татарские станы. Вернувшись, те объявили, что никого не нашли, как будто татар разметала какая-то сила, оставив только медь, железо и множество прочего товара. Огонь же угас.
Рассказывали, что отступили татары от города, почувствовав вдруг великий страх и трепет. Будто увидели они некое великое воинство, идущее на них, и кинулись прочь, гонимые гневом Божиим и молитвами Пресвятой Матери Его, великих чудотворцев и всех святых. Бежали они, бросив тех, которых взяли раньше в полон, и не уклонялись ни вправо, ни влево, только бы скорее убежать от грядущего на них гнева.
Услышав сие, все бывшие во граде люди воздали хвалу Богу и Пречистой Матери Его, скорой помощнице, и великим чудотворцам, молебны совершая и благодаря за ограждение от грядущих на них всевозможных зол.
Великая же княгиня Софья в тот же час послала за сыном своим Василием, который в ту пятницу на восходе солнца был перевезен за Волгу в устье Дубны. Услышав великую радостную весть, князь заплакал и, благодаря Господа Бога и Пречистую Матерь Его и всех святых, в тот же час возвратился к Москве. Войдя во град, пришел он в церковь Пресвятой Богородицы и пал перед образом Владычным, многие слезы изливая и говоря: «Благодарю тебя, Владыко, что не предал стадо твое православных христиан этим безбожным сыроядцам». Так же и перед образом Пресвятой Богородицы пал, плакал и молился, потом стоял на коленях у гроба чудотворца Петра. Совершив молебен, принял князь благословение от руки отца своего Ионы-митрополита. А потом, вышедши из церкви, целовал мать свою, и сына своего Юрия и прочих. Затем пошел по всем соборным церквам, молебны совершая и слезы изливая, благодаря человеколюбца Бога и Пречистую Матерь Его и всех святых за совершившееся чудо.
Утешал великий князь и горожан, говоря:
— Сие нашло на вас моих ради грехов, но вы не унывайте. Пусть каждый из вас ставит дома по своим местам, а я жаловати рад и льготы дам.
Потом вместе с митрополитом, и с матерью своей, и с детьми своими, и с боярами пошел великий князь на обед, и было веселие в тот день, веселие после бывшей скорби, нашедшей на город из-за грехов наших.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
ОТЧЕ НАШ СЕРГИЙ
Опять на землю пришла мокряница-осень. Все чаще стали путь северные неуютные ветры, чистое бесконечное небо скрывалось за войлочными облаками. Впрочем, сейчас, в начале сентября, дни стояли спокойные и светлые, словно сама Богородица заботилась о том, чтобы к ее празднику — Рождеству—в природе и в душах царила радость.
Рождество Пресвятой Девы Марии было вчера, и в Троицкой обители отметили его достойно, с чистой душой и светлыми мыслями, с превеликим усердием вознося хвалу простой женщине из небольшого галилейского города Назарета, родившей Иисуса Христа, Спасителя мира.
Отец Мартиниан особенно любил этот праздник. Наверное, так же как Пасху — Воскресение Христово, когда ликует все живое на земле. Но Рождество Пречистой Девы он выделял потому, что в Ферапонтовой обители, где прошло столько лет его игу-менствования, храм был освящен в честь этого славного события, и вот уже полвека монастырская братия молилась в Богородичной Рождественской церкви, ежегодно с любовью и трепетом душевным отмечал свой храмовый праздник. Уже несколько лет отец Мартиниан был настоятелем в обители преподобного Сергия, однако в этот день душа его переносилась на север, на берег Бородавского озера, где на холме среди обряжающихся в осенний свадебный наряд лесов стояла тихая обитель — его земной приют долгие годы, дом Богоматери, которым управлял игумен в меру своего разума, где он искал спасения и где вел не всегда стойкую братию к Царствию Небесному.
Но вчерашний праздник прошел, прошла и тоска по благословенным северным местам, где Бог сподобил его родиться и служить Ему, Господу. Сегодня был день поминовения праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, и сейчас в трапезной палате, где в безмолвии вкушали иноки скромную пищу, молодой и по-юношески румяный монах звонко читал слово на Рождество Пресвятой Богородицы святителя Андрея Критского.
— Люди Божий, язык святой, собрание священное! Почтим отеческую память; возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по вере данной ему благодати, да принесет достойный дар настоящему торжеству. Отцы — благоденствие рода; матери — благочадие; неплодные — неплодство греха; девы — сугубое целомудрие, то есть души и тела; брачные — похвальное воздержание. Если кто из вас отец — да подражает отцу Девы; хотя кто и бездетен — да пожинает плодотворную молитву, возрастающую из Богоугодной жизни. Мать, питающая чад своих, да радуется вместе с Анной... Неплодная... да приходит с верой. Дева, непорочно живущая, да будет матерью слова, украшая словом благолепие души, брачная — да приносит умную жертву от плодов молитвы. Все вкупе да торжествуем в честь отроковицы, Матери Бога: из Нее исшел Пророк... Христос Бог, Истина. Аминь.
Пока розовощекий юный монах читал Похвальное слово, отец Мартиниан, сидящий за общею трапезой и вкушавший общую пищу, думал о том, что вот Евангелие почти ничего не рассказывает о родителях Девы Марии, а ведь жизнь их была праведна и горестна... Долго не имели они детей. Наказанием за тяжкие грехи считалось это у евреев. Сколько гонений, сколько несправедливых поношений приходилось терпеть супругам от соотечественников... Как опечалился праведный старец, когда во время большого праздника первосвященник отказался принимать дары, которые Иоаким принес в Иерусалим для жертвы Богу. Считая себя самым грешным из людей, решил он не возвращаться домой и поселиться в пустынном месте. Анна же, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве просить Бога, чтобы даровал им ребенка. Сколько же времени молились они вот так, вдвоем, но в разных местах? Какие словеса говорили, пока услышал милосердный Господь молитвы праведников, и архангел Гавриил принес им весть о рождении дочери, как потом возвестил самой Деве Марии о рождении Сына. Старые уже супруги дали обет посвятить дитя, которое им пошлет Господь, Богу... Радовались престарелые родители появлению дочери, хотя вряд ли понимали они слова архангела о том, что через Нее будет даровано спасение всему миру. Ибо по промыслу Божиему надлежало Марии послужить, тайне Воплощения Бога Слова — явиться Матерью Господа нашего Иисуса Христа...
Трапеза для отца Мартиниана закончилась неожиданно быстро: за своими размышлениями и раздумьями он не успел съесть того, что полагалось каждому в это утро. Впрочем, игумен не придал этому никакого значения. Он привык есть мало и, если случалось оставаться без еды, легко переносил голод. Телесный бунт он давно уже научился заглушать молитвами и делами.
Раздался тихий звон колокольца: это монах после чтения молитв и писаний святых отцов дал знак к окончанию трапезы. Иноки дружно встали и, произнося тихую молитву, возблагодарили Господа за дары Его.
Трапезная быстро опустела, монашествующие разошлись на различные послушания. Еще вчера игумен и келарь Иларион обговорили, куда и сколько человек надо послать, а сегодня уж келарь сам дал каждому иноку дело.
Отец Мартиниан направился в свою игуменскую келью, где его ждало важное дело, можно сказать, святое. Вчера серб Пахомий, священноинок, прибывший в Россию со святой горы Афон, великий книжник и словописец, принес настоятелю свой большой труд — «Житие преподобного Сергия Радонежского». Вообще-то житие троицкого игумена было уже написано более четверти века назад. Инок обители Живоначальной Троицы Епифаний, за свою ученость прозванный Премудрым, двадцать лет собирал материалы об основании монастыря, о детских и юношеских годах отрока Варфоломея, как звали преподобного Сергия в миру, о его родителях, братьях, о подвигах на монашеской стезе. Потом составил он житие основателя обители, где описывалась жизнь святого старца от рождения до самого преставления. Но вот беда — читать это житие или отрывки из него во время церковной службы или в трапезной было тяжело. Уж очень витиеват и словообилен был труд Епифания. Вся ученость монаха, все его благоговение перед святым отцом Сергием вылились в такое премудрое длинное, хитросплетенное повествование, что русские первоиерархи задумались над тем, как бы переделать это писание.
Поэтому и получил умный и скорый на руку серб заказ от митрополита Ионы и настоятеля Мартиниана переделать Епифаниево творение так, чтобы можно было читать его на службе, в день прославления преподобного. К этой вечнопамятной дате хотел отец Мартиниан иметь новое, переделанное житие преподобного Сергия, дополненное различными чудесами, которые произошли в обители уже после смерти святого.
Троицкий игумен только что вернулся из стольного града Москвы, где собирался освященный собор. Первоевятитель Иона, ставший уже законноиз-бранным митрополитом Русской земли, и архиепископы, и епископы, и игумены больших монастырей дружно порешили считать Сергия Радонежского общерусским святым. Установили и дни поминовения чудотворца: 5 июля, когда были открыты мощи святого, и 25 сентября, когда он преставился. Вот и заботился отец Мартиниан о службе святому, благолепии и достоинстве ее, о создании жития, которое читалось бы по всем городам и весям.
Игумен вышел на монастырский двор и остановился у порога трапезной, ослепленный после полумрака палаты нежным, ласковым светом, похожим на сияние золотых нимбов икон. Предивная погода стояла в эти праздничные дни! Видно, самому Господу захотелось, чтобы сияло все кругом небесным светом в честь Рождества Его Пресвятой Матери и Ее праведных родителей.
— Благодарю Тебя, Боже, за сию несказанную благодать! — тихо произнес игумен, благоговея перед дивным Божиим творением под названием Земля.
Монастырский двор чуть поднимался посредине, сохраняя еще очертание того холма, который прозывался «Маковец» и на который пришел юноша Варфоломей, чтобы поставить келью и жить здесь в посте и молитве. На макунше пологого возвышения выросла одинокая сосна, высокая, прямая, похожая на гигантскую свечу, у которой вместо пламени — сочная зелень вершины. Зато ствол напоминал саму свечу, сделанную из хорошего воска. Он золотился в неярких утренних лучах, так что хотелось потрогать и приласкать это высокое живое существо, которое Господь окрестил Деревом и не дал ему возможности двигаться, а определил стоять на одном месте, держась за землю-матушку корнями.
Под сосною лежал валун, и если сесть на него и смотреть вперед, то храм Живоначальной Троицы оказывался как бы немного внизу. Взгляд охватывал его целиком, от основания до креста на маковке. Эта каменная церковь, построенная преподобным Никоном уже после открытия мощей святого Сергия, была хороша и сложена дивно. Ученик и преемник радонежского чудотворца соорудил храм в честь Пресвятой Троицы над гробом своего учителя и наставника, так что авва Сергий, взирая на него с неба, должен был остаться довольным делами рук человеческих.
Мартиниан остановился у той сосны, радостно выросшей на свободе, перекрестился трижды на храм Божий, произнося про себя молитву в честь Пресвятой Троицы и привычно окидывая взглядом монастырский двор. Иноки уже приступили к своим послушаниям: в дальнем углу пилили и кололи березовые стволы — заготавливали дрова на зиму; над хлебней вился дымок — пекли хлебы на три дня; несколько монахов с корзинами шли к монастырским воротам — им сегодня собирать морковь на нижнем огороде.
Из поварни с коромыслом на плече вышел юноша Леонтий. Пустые ведра раскачивались в такт его шагу, и был он празднично веселый, даже нарядный в своей светлой рубахе среди черных ряс иноков. Отец Мартиниан, как всегда при виде этого молодого еще человека, внутренне вздрогнул, словно видел перед собой не обыкновенного юношу, а нечто чудесное и непонятное. Да ведь и вправду необычно все, связанное с этим человеком, ибо был он овеян славой чуда преподобного Сергия.
Игумен хорошо помнил тот день. Отмечали память святого апостола и евангелиста Луки, в храме шла литургия. Отец Мартиниан стоял на своем обычном игуменском месте, слушая и запоминая огрехи в службе молодого священника, чтобы потом сказать ему об этом.
Когда началась проскомидия и двери в алтарь, где на жертвеннике священник готовил просфоры и вино для святого причастия, закрылись, в храме почувствовалось какое-то движение. Игумен заметил юношу, которого раньше не видел в монастыре, и потому сразу обратил внимание на бледное, худое лицо и на левую руку, скрюченную, ссохшуюся от болезни и прижатую к ребрам. Юноша осторожно, стараясь никого не задеть, пробирался к правому углу, к раке преподобного Сергия. Игумен понял, что это один из страждущих, которые часто появлялись в обители. Одни из них уходили, не получив быстрого исцеления, другие задерживались надолго, но потом все равно исчезали, не дождавшись чуда. Этот сухорукий был необычен. То ли выражение лица его, то ли широко открытые глаза с каким-то потусторонним взором приковали внимание игумена, и он, произнося слова молитв, краем глаза все время следил за юношей, словно ждал чего-то.
Открылись северные двери. Священник с дьяконом, который нес в руках святое Евангелие, вышли из алтаря на амвон. Провозгласили «Премудрость, прости!» Это означало, что сейчас будут читать Евангелие и все, находящиеся в храме, должны слушать со вниманием и благоговейно. Дьякон изобразил Евангелием крест в воздухе, и певчие затянули «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас». Эту молитву прочли три раза в честь трех лиц Святой Троицы.
Юноша стоял у раки преподобного и творил земные поклоны, опираясь по одну руку и обращаясь с мольбой к святому. На него стали оглядываться: очень уж истово бил он лбом о каменный пол и шептал слова молитвы.
Вот младчеловек сотворил очередной поклон, припал к гробнице и вдруг возопил громким голосом: «Моя рука!» Осторожно оторвал он левую руку от бедра и заговорил уже тише, глядя остановившимися неземными глазами перед собой: «Вижу святого Сергия! Стоит он у своего гроба и повелевает мне протянуть сухую руку!» Юноша медленно вытянул левую руку вперед, пошевелил пальцами и снова припал лицом к гробнице, целуя ее и крестясь. Стоя на коленях и держась рукой за раку, он громко, на всю церковь, восклицал: «Благодарю тебя, великого в чудесах, за милость твою! Благодарю, что узрел мои страдания с высот небесных и умолил Господа нашего дать мне исцеление! Отче милосердный, Сергие многомудрый, доброта твоя неизреченна! Всюду буду свидетельствовать о твоем великом чуде, преподобный отче наш!»
Все бывшие в храме, все иноки и сам игумен стояли в взликом страхе, удивленные чудесным зрелищем. Ведь видели, что юноша пришел со скрюченной, больной рукой. И вот на глазах у всех свершилось чудо!
Немало времени истекло, пока присутствующие пришли в себя. Юноша все ликовал и благодарил преподобного Сергия, а следом за ним воздали хвалу Богу и его святому угоднику — чудотворцу Сергию все остальные.
Докончили литургию, приняли святое причастие, и только после этого игумен и монахи стали расспрашивать юношу о нем самом. Тот рассказал, что зовут его Леонтий, сам он из Вышгорода на Протве, сын благородного старейшины города. Долго странствовал он по разным землям, бывал в храмах и монастырях, молил Бога исцелить иссохшую руку, избавить от страданий. Однажды пришел он в село, принадлежавшее Троицкому монастырю, заночевал в доме одной вдовицы. Тут-то во сне явился к нему сам Сергий и сказал: «Чадо, если хочешь полностью исцелиться, иди в обитель Троицкую, о которой ты много слышал и которую сам увидишь, и будет тебе по желанию твоему, а ты воздай славу Богу». Вот и пришел юноша в монастырь, и у раки преподобного исполнилось то, что обещал святой в видении.
Игумен Мартиниан подошел к Леонтию, осторожно взял его сухую, искореженную прежде руку в свою и поднял кверху. Рука, такая тонкая, но живая, прямо на глазах наполнялась кровью, розовела, и кожа как будто оживала, из пергаменной превращалась в упругую, здоровую.
Как долго, с какими благодатными слезами, с каким душевным трепетом молились в этот день все бывшие в обители! Весть о чуде мигом распространилась по окрестным деревням, и в монастырь стал собираться народ. В храме звучали молитвы преподобному Сергию, прославляя великого чудотворца.
— О великий заступник рода христианского, теплый ходатай ко Всещедрому Богу о всех православных, неусыпный сохранник рода Российского, скорый помощник в бедах всем, к тебе с верою и любовию притекающим, отче святый, от Отца Небесного чадам твоим данный...
Игумен повелел достать из ризницы рукописную книгу с «Похвальным словом Сергию Радонежскому», составленным еще Епифанием Премудрым, и дьяки читали его у раки святого, прерываясь для молитв Господу Богу, Живоначальной Троице, Пресвятой Богородице и самому Сергию. Весь этот день до позднего вечера двери храма не закрывались и присутствующие здесь вспоминали многие чудеса, совершенные троицким игуменом при жизни его и после смерти.
Священноинок Пахомий Серб тут же записал необычное событие, которому был свидетелем. Особенно понравилось отцу Мартиниану, как святого-рец подчеркнул то, что сам видел все своими глазами: «И вот вся предстоящая братия и я, недостойный Пахомий, писавший в это время житие святого, с ужасом увидели чудо...» Легкий на слова серб честно признался в том, что был до этого побежден маловерием, а святой укрепил его в вере, «как это случилось с епископом, пришедшим из Цареграда...» Это вспомнил афонец случай из жизни преподобного, когда посетил его в обители епископ из Константинополя. Много слышал он о Сергии, но одержим был неверием и говорил: «Как может в этой земле такой светильник появиться?» Пришел в обитель, однако за сомнения поражен был слепотой. Преподобный же взял его за руку и ввел в келью свою. Лишь покаявшись, получил епископ прощение, снова прозрел и отправился в путь, славя русского святого.
После того как прочитал отец Мартиниан описание чуда, сделанное Пахомием, уверовал он в книжные способности священника, пришедшего в далекую Русь со славной горы Афон, ничего не зная о жизни русичей, не ведая их святынь, не понимая их бытия, сомневаясь в богоизбранности таких светильников, как преподобный Сергий. То, что серб покаялся в этом и признался, что сам уверовал в святость троицкого игумена после свершившегося чуда, расположило Мартиниана к приезжему составителю книг и сочинителю житий. И подумал игумен, что если Бог даст, пусть напишет также Пахо-мий, именуемый по-гречески Логофет, житие преподобного Кирилла, любимого учителя и наставника Мартиниана.
...Юный Леонтий подошел к настоятелю, опустил коромысло с пустыми ведрами на землю и сам упал на колени, крестясь и творя земные поклоны.
— Что ты, чадо? — ласково спросил отец Мартиниан.
— Дозволь слово сказать,— явно волнуясь, ответил тот.
Игумен заметил, что бывшая прежде сухой рука набрала кровь и плоть и стала почти неотличима от другой, пребывающей всегда в жизненной силе.
— Говори, чадо,— все так же ласково ободрил Мартиниан юношу.
— Не сердись, отче, не упрекай в неблагодарности, не осуждай меня, грешного... Хочу я покинуть монастырь... Тесно мне стало здесь... Хочу пойти по Руси, рассказывать всюду о чуде преподобного Сергия, чтобы в городах и весях узнали о великой святости отца нашего и учителя, чтобы прославляли его не только в обители и в округе нашей, а далеко за пределами...
Отец Мартиниан живо откликнулся на порыв юноши. Бережно помог ему подняться с земли, перекрестил и положил руку на голову:
— Иди... Иди, сын мой! Благословляю тебя на путь дальний и трудный, благословляю на служение святое, на прославление преподобного Сергия, игумена всей земли Русской.
Юноша с почтением поцеловал руку Мартиниана.
— Когда собираешься покинуть обитель?
— Сегодня... Вот воды в поварню натаскаю, помолюсь у гроба Сергиева и пойду потихоньку.
— Помолись, чадо. Да в странствиях своих не забывай обитель преподобного, возвращайся почаще к Животворящей Троице, к раке святого. Он тебя среди других страждущих выделил, за искреннюю веру твою отметил, Господа нашего проявить милосердие умолил... Не забывай несказанной милости Его!
Юноша взял коромысло с ведрами и бодро пошел к воротам. Там, за оградой, под горой, был колодец, который все звали Сергиевым. Возник он тоже чудесным образом. Когда иссякла вода в монастыре и не стало ее хватать для всех поселившихся тут, возроптала братия, упрекая преподобного:
— Зачем ты, не подумав, решил на этом месте, где воды нет поблизости, обитель создать?
Святой отвечал им:
— Ведь я один на этом месте собирался безмолвствовать, Бог же захотел обитель воздвигнуть, чтобы прославлялось святое имя Его.
Вышел он из монастыря, взяв с собой одного брата, спустился в глушь леса около обители. Нашел во рву немного воды от дождя и помолился. И когда преподобный осенил то место крестом, там внезапно появился большой источник, который сохранился и доныне. Из него черпали воду для всяких нужд, а некоторые особо верующие даже исцелялись от болезней и страданий.
Игумен Мартиниан перекрестил удаляющегося юношу и пошел в свою келью, куда должен был прийти и афонский священноинок, в очередной раз переделав житие преподобного Сергия.
Пахомий Серб честно отрабатывал заказы великого князя и русских иерархов. Писал он быстро и умело, материалы собирал тоже весьма борзо, не спорил, если просили переделать, только набавлял цену за свою работу.
Он приехал на Русь давно, успел пожить в Новгороде и написать там житие новгородского святого Варлаама Хутынского. Потом, еще до Мартиниана, перебрался в Троице-Сергиеву обитель, составил здесь житие преподобного Никона, бывшего игуменом после Сергия, переписывал книги и уже трижды переделывал житие троицкого чудотворца.
Отцу Мартиниану, основательному, медлительному по природе, любовно вникающему во все мелочи, не понравился поначалу быстрый сербин и то внутреннее безразличие, которое ощущалось в его скорой работе. Он внимательно слушал заказчиков и писал так, как просили. Но не было, не было в душе его трепета, не было преклонения перед русскими святыми. Правда, молился он усердно и много, а в церкви Живоначальной Троицы особо выделял храмовую икону, написанную более четверти века назад чернецом Андреем Рублевым. Когда монахи расходились по кельям, Пахомий часто в одиночестве стоял перед этим образом и однажды даже сказал отцу Мартиниану:
— Видно, и вправду велик был этот ваш святой Сергий, если в похвалу ему пишутся такие иконы...
Игумен сухо поправил святогорца:
— В похвалу Пресвятой и Живоначальной Троице создал свой храм преподобный отец наш Сергий и потом уж возвел в камне наследник его Никон. Икона чернеца Андрея тоже прославляет Единосущную и Неразделимую Троицу, мир и покой, которые царят между тремя лицами Ее: Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом—Духом Святым.
Пахомий, как обычно, возражать не стал, только прочел молитву во имя Святой Троицы. Потом же, глядя на светлые лики ангелов, на их тихую, внутренне мудрую, безмолвную беседу, попросил:
— Расскажи, отче, об этом чернеце...
Отец Мартиниан обрадовался просьбе. Уже давно раздумывал он о том, как разбередить душу спокойного чужестранца, как зажечь в ней хоть маленький огонек того живого огня, который горит в душах русских людей при упоминании имени преподобного Сергия. По прибытии в монастырь отец Мартиниан, помня просьбу великого князя и рязанского епископа Ионы, сразу прочитал «Житие преподобного Никона», созданное Пахомием. Оно не понравилось новому игумену: написано скупо и кратко, быстрой небрежной рукой, с холодным сердцем. Поэтому, рассказывая Пахомию об иконописце, Мартиниан особо подчеркнул, что тот долго молился и безмолвствовал, прежде чем приступить к созданию иконы. Говорил о возвышении духа, которое достигается через великий пост и длительные молитвы, говорил о Божьей благодати, которая через живописца или писателя житий воплощается в его замысле, чтобы потом перейти к другим людям, которые должны почувствовать живое Божественное начало в законченном труде.
Как хотелось троицкому игумену пробудить душу этого мудрого и способного писателя, как старался он внушить афонцу великое почтение к тем русским святым, жития которых составлялись. Как желал он, чтобы из-под быстрого пера афонского инока выходили словеса божественные, песнопения и молитво-словия, вошедшие бы на долгие годы в обиход Русской Церкви.
— Молись преподобному Сергию,— увещевал он Пахомия,— чудотворец наставит тебя, благословит твои писания, вдохнет в них Дух Святой.
Мартиниан читал сербу начальные страницы «Жития преподобного Сергия», которое составил еще Епифаний Премудрый. Читал медленно, с душой, стараясь, чтобы афонец полюбил кроткого старца, прожившего жизнь в смирении и молитвах, отказываясь от почестей и святительской власти.
Иногда он сам просил священноинока почитать житие Сергия, и тогда тот, все еще плохо выговаривая русские слова, выразительно произносил:
— Благодарим Бога за Его великую благость к нам... Ныне же мы должны особенно благодарить Всевышнего за то, что Он даровал нам такого святого старца,— я говорю о преподобном Сергии,— в нашей Русской земле и в нашей северной стране, в наши дни, в последние времена и годы просиявшего. Гроб его находится у нас и перед нами, и, приходя к нему с верой, мы всегда получаем великое утешение нашим душам и большую пользу; воистину это великий дар, дарованный нам от Бога...
Переделывая написанное, Пахомий вычеркнул было все рассуждения инока Епифания о том, что прошло уже много лет после смерти Сергия, а жития его все еще нет. Мартиниану как раз нравилась живая речь, нравилось обращение к читателям. Казалось, что премудрый инок беседует со своей братией по монастырю и по-человечески удивляется этой несуразице.
— Я горько опечален тем, что с тех пор, как умер этот святой старец, пречудный и совершенный, прошло уже двадцать шесть лет и никто не дерзнул написать о нем — ни близкие ему люди, ни далекие, ни великие, ни простые: великие не хотели писать, а простые не смели...
Называя себя «окаянным и дерзким», Епифаний говорил о том, как начал он «подробно и понемногу» собирать рассказы о жизни старца, как за двадцать лет составились у него списки, с которыми он и не знал, что делать. Мудрые и рассудительные старцы сказали ему:
«Если будет написано житие мужа святого, то от этого будет большая польза и утешение и писателям, и рассказчикам, и слушателям; если же не будет написано житие святого старца, а знавшие и помнившие его умрут, то нужно ли такую полезную вещь оставлять в забвении и, как пучине, предавать молчанию. Если не будет написано его житие, то как узнать не знавшим его, каков он был или откуда происходил, как родился, как вырос, как постригся, как воздержанию подвизался, как он жил и каков был конец его жизни. Если же житие будет написано, то, услышав о жизни старца, кто-нибудь последует его примеру, и от этого получит пользу...»
Отец Мартиниан попросил Пахомия оставить все рассуждения Епифания в предисловии, и сам часто повторял слова отца церкви, архиепископа Кесарий-ского Василия Великого, которые записал и Епифаний: «Будь подражателем праведно живущим и запечатлей их жизнь и деяния в своем сердце».
Отношение игумена к иноку с Афонской горы изменилось после чуда с сухоруким юношей Леонтием, которое наблюдали все, в том числе и сам Пахомий. Потрясло оно серба, и видел отец Мартиниан, что афонец даже с лица спал от того деяния, что произошло на глазах всего народа. Проникся свято-горец верой в русского святого, жизнью своей беспорочной сподобившегося творить чудеса и при жизни, и после смерти. Еще заметил монастырский настоятель, что бережнее стал относиться Пахомий к творению Епифания Премудрого. Переделывал его строки с внимательным старанием, чаще советовался с игуменом, что сократить, а что оставить, спрашивал о мелочах, на которые прежде не обращал внимания. Больше стал думать приезжий афонец о святом старце Сергии: об основании обители, в которой пребывал, о различных эпизодах жизни преподобного, которые уже были известны ему из Пахомиева жития. А еще размышлял он о различных чудесах у гроба святого. Тут уж Пахомий вопрошал игумена о каждом случае, слушал многих людей и запоминал подробности... Понял чужеземец, что и здесь, в далекой от Афона северной земле, сияют настоящие светильники Божьей мудрости, достойные преклонения и прославления.
Вот и сегодня принес святогорец своему игумену еще одну главу о чуде, бывшем в монастыре у гроба святого Сергия, о чуде, тоже случившемся при Мар-тиниане. Настоятель хотел прочитать ее до прихода Пахомия, но беседа с юношей Леонтием задержала его, и он не успел оценить новые страницы труда сербина.
Они встретились около кельи игумена. Пахомий тихо сказал: «Мир тебе, отче», на что Мартиниан так же тихо ответил: «И с тобой да пребудет Благодать Божия». А потом, уже в келье, настоятель попросил инока Пахомия самого прочитать эти строки, ибо скоропись писателя была трудна для него. Сербии, держа листы почти перед собой — глаза уже плохо видели,— читал быстро и неинтересно, словно и не случилось ничего особенного...
— «Был великий праздник. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, по-другому сказать — всего мира радость и воскресение. Игумен Мартиниан со всем собором в великой лавре Сергеева монастыря совершат праздничную службу, проведя эту светозарную ночь за чтением, канонами, совершив по обычаю утреню и Божественную литургию. И повелел игумен устроить братии большое угощение, что и сделали. Поутру в понедельник зазвонили к утрене. И когда игумен с братией собрались по обычаю в церковь, подошел к игумену келарь Иларион и рассказал об иноке Маркелле, о случившейся с ним необычной болезни... Игумен, услышав о происходящем, тотчас пошел с келарем в пекарню, взяв с собой икону чудотворца, стоявшую над его гробом, и стал петь молитвы Пресвятой Богородице и чудотворцу Сергию...
Отец Мартиниан перенесся мыслями в то утро...
Хлебопекарня представляла собой зрелище, поистине приводящее в ужас: бесноватый инок-пекарь сидел на стуле и никому не давал подойти к себе. Рот его был чудовищно отверзт, а изнутри исходили голоса, похожие на раскаты грома. Рядом в растерянности стояли другие монахи. Игумен тогда сразу начал молебен, а потом вышел из монастыря на литию и множество людей вместе с ним шли вокруг обители с иконами, пением тропарей, совершая праздничную службу как подобает.
Возвратились в монастырь, Маркелл как бы пришел в себя и стал рассказывать, что приступил к нему лукавый и начал терзать его внутренности, и оттого он кричал и по-скотски, и по-звериному, и по-лошадиному, и разными собачьими голосами, так что вой был слышен далеко за монастырем.
Отец Мартиниан совершил молебен Пресвятой Богородице и преподобному Сергию и велел отвести Маркелла в церковь Живоначальной Троицы, ко гробу чудотворца. Тот упирался, не хотел идти и бесчинствовал. Его повели силой, а уже в храме бесноватый стал понемногу успокаиваться, пал ко гробу чудотворца, молился и наконец погрузился в тонкий сон.
— Игумен велел разбудить его,— читал Пахомий,— и, поднявшись, Маркелл начал рассказывать: «Когда я заснул, то увидел игумена Мартиниана, со всеми священниками, клириками и старцами поющего молебен посреди церкви... Я смотрел на это, и вот от северных дверей явился человек с прямыми волосами, искрящимися глазами, в грязной одежде до колен. Видение это было красного цвета. Человек приблизился к игумену с яростным воплем: «Ты зачем меня обижаешь?» — и, схватив игумена, стал с ним бороться. Тогда из алтаря вышел благолепный старец в священнических одеждах, с жезлом; мне казалось, что я вижу святого Сергия, как пишут его на иконах. Подойдя, ударил он лукавого старца-злодея жезлом по голове, говоря: «Зачем ты трогаешь рабов Божиих, служащих Богу день и ночь?» И тотчас окаянный стал невидим».
Пахомий замолчал.
— Это все? — спросил отец Мартиниан.
— Все, отче.
— Добавить надо... Помнишь, говорил инок Маркелл о том, что весь Светлый понедельник слышал он, как вопили бесы дурными голосами. А совсем освободился он от них только ночью, и с тех пор уже не слышал их голоса... И прибавь обязательно, что исцеление произошло по молитвам Пресвятой Богородицы и чудотворца Сергия перед Господом нашим, ибо Он один способен совершать чудеса.
— Сделаю, отче. Сегодня же допишу,— легко согласился Пахомий, помечая своей быстрой рукой что-то на пергамене.
Отец Мартиниан помолчал, пытливо глядя на афонца, и наконец решился спросить:
— Чадо, про лукавого ты от Маркелла слышал? Пахомий тоже помолчал, потом ответил:
— Слышал кое-что...— и добавил: — Плетение словес есть тайна великая, иногда и не такое напишется...
Снова оба замолчали.
— Убрать? — осторожно спросил Пахомий.
— Оставь, чадо,— улыбнулся про себя Мартиниан,— Почитай-ка мне Похвальное слово святому.
— Похвальное слово преподобному отцу нашему Сергию, созданное его учеником, священноиноком Епифанием,— начал читать Пахомий.
Отец Мартиниан с внутренним удовлетворением отметил, что афонец сохранил название и имя пер-восоздателя слова, скромно умолчав о своих трудах по переделке его. Игумен сам любил это Похвальное слово и читал его в дни памяти преподобного. Читал, конечно, не все, а отдельные отрывки, ибо было оно велико и многонасыщено библейскими словами.
Игумен вдруг решил, что незачем слушать невнятное чтение серба, лучше уж посмотреть на его переделки самому.
— Иди, чадо,— отпустил он Пахомия,— Я сам почитаю. Если захочу что сказать — позову. А ты потрудись над службой преподобному, особенно над каноном с акафистом.
Когда афонец ушел, игумен стал неторопливо и внимательно вчитываться в слова Епифания, которые продиктовало ему благоговейно любящее сердце:
«Святой Сергий стяжал великое воздержание, смиренномудрие, целомудрие и нелицемерную ко всем любовь. Слава о святом разнеслась повсюду, и люди, слышавшие о нем, издалека приходили в обитель Святой Живоначальной Троицы и получали великое благо, большую пользу и спасение, ибо Господь даровал преподобному способность понимать всех людей и утешать опечаленных. Преподобный с вниманием следил за собой, чтобы его ум не прилеплялся ни к каким предметам и житейским заботам; поэтому он не приобрел себе на земле никакого имущества: ни тленного богатства, ни золота, ни серебра, ни сокровищ, ни высоких и роскошных теремов, ни домов, ни богатых сел, ни драгоценней одежды. Вместо всего этого он приобрел истинное нестяжание, бедность и настоящее богатство — духовную нищету, безграничное смирение и нелицемерную любовь ко всем людям. Святой равно любил и уважал всех, не взирая на лица, не разбирая, не судя, ни перед кем не возносясь, не осуждая, не клевеща, не держа против кого-либо злобы и гнева, не имея в себе ярости, жестокости или свирепости. Напротив, слова его всегда были растворены солью благодати и дышали приятностью и любовью».
Особенно выделил Мартиниан слова, на которых задержался в раздумье: «Кого из других святых Бог возлюбил столь же, сколь преподобного Сергия?»
Вспомнился ему опять авва Кирилл, его обитель, любовь Кирилла к нему, Мартиниану... И подумалось, что малы, малы его собственные заслуги перед Господом, потому лишен он той особой благодати Господней, которая дается избранным, и никогда, наверное, не сотворит Бог по его молитвам никакого чуда... Пал отче Мартиниан на колени перед святыми иконами и долго, горячо молился, осуждая себя за греховные мысли, за непомерную гордыню, за дерзкие желания, за мечтания, которые не должны даже приходить ему в голову. И наложил игумен сам на себя епитимью: неделю сидеть на хлебе и воде, читать после вечерней службы вдвое больше молитв и класть вдвое больше поклонов.
Незаметно стали тускнеть яркие краски осени. Зашелестели на ветру осины и березы, с сожалением сбрасывая отслужившую помертвелую листву. Нахмурились ели и сосны, потускнел густой медвяный цвет сосновой коры, и запах молодых еловых веток уже не услаждал душу. Все чаще лились над землей небесные слезы, будто сам Господь Бог и весь сонм святых скорбели о грехах человеческих.
Пришло и 25 сентября, празднование памяти преподобного Сергия. Этот день всегда отмечали в обители, но теперь поминовение должно пройти особенно торжественно и величаво, как и положено для общерусского святого. Житие троицкого игумена было переделано и приспособлено для чтения на службе, были написаны и сама служба, акафист и молитвы преподобному. Отец Мартиниан ждал дня преставления радонежского чудотворца с большим нетерпением и внутренним беспокойством, ибо ныне основателя Троицкой обители приравняли к первой христианке на Руси великой княгине Ольге, к крестителю Руси великому князю Владимиру, к великомученикам-страстотерпцам Борису и Глебу, к основателям монашества в Киевских землях преподобным Антонию и Феодосию Печерским. В эту осень особенно хотелось игумену, чтобы служба святому прошла вдохновенно и величественно, чтобы в храме чувствовалось присутствие Святого Духа, чтобы сам великий чудотворец остался доволен священнодействием в церкви Живоначачьной Троицы.
И — как знать! — может быть, святой отец тайно и невидимо посетит то место, где когда-то поставил одинокую келью, милосердная душа его проникнется болью тех, кто сейчас страдает на земле, и всемилостивый Господь по молитвам своего великого угодника сотворит в обители еще одно чудо...
В эту ночь отец Мартиниан не ложился спать. Прочитав все вечерние молитвы и обойдя в осенней темноте монастырские кельи (игуменская обязанность — блюсти братию!), старец вернулся к себе и еще раз начал просматривать житие преподобного и службу святому. Хотя служба и слово похвальное были закончены, отец Мартиниан, воспитанный учителем своим аввой Кириллом, привык в большой тщательностью относиться к книжным словесам. Потому и сейчас вчитывался он в каждое слово, изредка менял их, вставляя новые. Иногда хотелось переписать заново целые куски, ибо видел шестой троицкий игумен торопливость и некоторую небрежность в словах Пахомия. В писании серба местами не хватало душевности и благоговения, но сейчас уж переделывать поздно. Завтра служба пойдет так, как определено. А потом, когда всё станут переписывать для великого князя и митрополита Ионы, можно будет внести еще кое-какие поправки.
Пахомий хорошо потрудился: сделал свое дело, сотворил акафисты преподобному и Пресвятой Богородице. В последние дни серб работал и ночами, а отец Мартиниан следил за тем, чтобы его не отвлекали, чтобы было у него под руками все нужное, и сам читал то, что выходило из-под пера священноинока. Советовал, поправлял, добавлял и просил, чтобы было как можно меньше греческих слов, которые охотно использовал афонец и которые были непонятны здесь, на Руси.
Серое небо к утру расчистилось, день занялся радостный. Неяркие звезды быстро исчезли в желто-розовом свете восходящего из-за леса солнца. У запертых монастырских ворот уже появились страждущие. В основном это были болящие: они надеялись на чудо, которое может произойти у гроба преподобного в день его памяти. Здесь были люди с искореженными руками и ногами, слепые и немые, глухие и бесноватые, расслабленные и страдающие от различных внутренних болезней. Все молча ждали, когда откроются монастырские ворота, чтобы быстрее других достичь Троицкого храма, оказаться у раки чудотворца, припасть к ней, желательно поближе к изголовью, и молить, молить преподобного Сергия, чтобы даровал исцеление.
Игумен посмотрел в небольшое прорезное окошко на скопившихся людей, и внимание его привлек юноша, почти мальчик, с тонким, прозрачным лицом и огромными глазами. Он сидел на подстилке и резал ножичком свое платье. Рядом находился средовек, наверное, отец, в теплом кафтане и меховой (не по времени) шапке, да еще двое слуг. Эти дремали, свернувшись и укрывшись захваченными из дома тулупами. Видно, боярское дитя было беспокойным, и теперь, когда оно занялось делом, хоть и непотребным, никто его не трогал, не осуждал и ножика не отбирал. Отрок поднял свои огромные глаза и посмотрел на ворота. Игумену показалось, что встретились они взглядами, хоть и было еще сумрачно и туманно, да и окошко в дверях из-за малости своей не открывало целиком лица смотрящего. Отрок забеспокоился, тихо и тоскливо крикнул и замахал бледными, тонкими руками, словно прогоняя игумена. У отца Мартиниана отчего-то сильнее забилось сердце.
Вдруг увиделась ему яркая, как наяву, картина: сидит в горнице у маленького окошка боярыня, приложила руку к щеке, печалится, смотрит вдаль невидящим взором. А глаза у нее большие, грустные, отрешенные, какие бывают на иконах у Пресвятой Богородицы. Только не темные они, а серые, как у многих русских женщин.
Подняв глаза кверху и сложив руки в молитвенном жесте, игумен произнес про себя:
— Преподобный отче, сжалься над бедным отроком и его несчастными родителями...
А там, за воротами, слуги вскочили с земли, сели по бокам юноши, и боярин-батюшка погладил его по голове, чтобы успокоить. Отец Мартиниан перекрестил через окошко отрока, тот вдруг опять закричал и повалился на землю, изгибаясь неестественно всем телом и скуля, как побитый щенок. Игумен побыстрее закрыл окошко ворот и ушел прочь, дав наказ вратарю пускать мирян по колокольному звону.
Ключарь уже открыл Троицкий собор, и отец Мартиниан, пока еще никого не было в храме, сам преклонил колени у раки преподобного Сергия. Ничего не просил игумен для себя: ни богатства, ни власти, ни почестей. Даже здоровья не просил, полагаясь во всем на волю Божию. Лишь благодарил Создателя и Пресвятую Богородицу за все, за все в этой жизни, да святого Сергия за те милости, которые были дарованы обители. Благодарил за сохранение и преумножение братии, за процветание и разрастание монастыря, за те чудотворения, которые происходили у раки святого и, дай Бог, еще произойдут.
Потом игумен вышел из храма и велел звонить. Отворились двери келий, и троицкие монахи потянулись к храму на утреннюю службу. Открылись монастырские ворота, и тотчас двор наполнился шумом и топотом людских ног, стонами болящих и криками бесноватых, которых насильно тащили или вели связанными в храм Божий, ибо не хотели они идти сами.
Отец Мартиниан опять обратил внимание на отрока, тащимого слугами. Юношу закутали в кафтан, рукава которого были перекрещены впереди и завязаны сзади, так что руками отрок ничего не мог делать. Его слабых сил не хватало, чтобы сопротивляться двум здоровым молодым парням, и он только жалобно стонал и упирался ногами. Но слуги легко приподнимали отрока и несли стоймя, стараясь только, чтобы тот не завалился назад. Впрочем, сзади шел боярин-отец. Он непрерывно крестился и шептал молитвы.
Отец Мартиниан второй раз за это утро обратился к преподобному Сергию:
— Милосердный отче наш, умоли Господа всемогущего оказать милость несчастному и избавить от нечистой силы, заполонившей душу его.
Литургия, похожая на каждодневные ранние монастырские службы, прошла спокойно. Разве что в храме народу было больше, чем обычно. Однако миряне вели себя тихо, даже страждущие и болящие не проявляли нетерпения и суетливости, а молились степенно, сдержанно, приуготовляя себя к вечерней службе, словно чувствуя, что если и случится что-то важное в этот день, так именно на вечере, когда будут служить преподобному Сергию.
Литургисал в это утро священник из иноков обители, посвященный в сан еще до Мартиниана. Службу он знал хорошо, но все шло как-то неровно, нервно, словно перед грозой, когда беспокойство охватывает и людей, и животных, и всю природу. Небо, правда, было серо, спокойно, однако бесноватые начали кричать разными голосами и болящие стонали громко, может быть, для того, чтобы привлечь к себе внимание преподобного, взирающего на обитель с небес.
После литургии храм опустел. Миряне, пользуясь последними теплыми днями, вышли в монастырский двор. Расположились, кто где мог; одни отдыхали, другие перекусывали взятой из дома едой, третьи шли к колодцу святого Сергия за живительной водой. Ее набирали в разные емкости, захваченные на этот случай, тут же пили, а потом располагались на поваленных деревьях и пнях в редком уже лесу вокруг монастыря.
Отец Мартиниан, занятый каждодневными игуменскими заботами, с тревогой посматривал иногда в сторону монастырских ворот: без особого предупреждения могли нагрянуть церковные иерархи — или архиепископ Ростовский, или сам святитель Иона.
Однако никакие гости в этот день в Троицкую обитель не пожаловали. Да и хорошо: никто не помешает длительной вечерней службе, никто не будет отвлекать от сугубых молитв, обращенных к преподобному Сергию в день его поминовения.
Отец Мартиниан одевался на эту службу медленно, тщательно, и в душе его звучали слова стихиры, которую будут петь певчие, повторяя не единожды:
«Того моли, Тому помолися, Преподобие, даровати мир миру и душам нашим великую милость...»
Около храма отец Мартиниан увидел отрока, на которого обратил внимание еще утром. Боярин дал знак слугам, и те подвели юношу к игумену.
— Благослови, отче,— попросил приезжий.
— Как могу благословить, когда бес в нем? — ответил Мартиниан.— Веди в церковь, молитесь преподобному Сергию...
Бояровы слуги почти волоком потащили отрока в храм. Он сопротивлялся, кричал дурным голосом и пытался вырваться. Но слуги были крепкими, да и отец помогал им.
Народу в церкви скопилось еще больше. К раке святого Сергия трудно было пробраться; скорбящие и болезные толкали друг друга, чтобы хоть как-то протиснуться ко гробу и приникнуть к нему.
Служба началась величаво и торжественно. Горело множество свечей, и в храме было светло, как в полдень. А на дворе потемнело. Тучи постепенно, неторопливо закрыли небо, и пошел мелкий дождь. Он то переставал, то начинался снова, облака то темнели, то светлели, иногда открывая чистые окна в небесное царство.
Пропели стихиру, возгласили славу.
— Приидите, монашествующих множество днесь; Сергия, благочестия подражателя, песньми и пеньем восхвалим, и честную его и многоцелебную раку об-стояще, любезно облобызаем, глаголюще: радуйся, преславне Сергие, отечеству твоему пресветлый све-тильниче... Радуйся, ибо Троице предстоиши со Ангелы; и моли непрестанно даровати душам нашим великую милость.
Служба состояла из нескольких частей. Прославление радонежского чудотворца чередовалось в ней с прославлением Господа Бога, Живоначальной Троицы и особенно Богородицы, как покровительницы и защитницы монастыря. Для этой службы Пахомий Серб написал специальный канон, посвященный Пресвятой Деве Марии. Голоса певчих, стоящих на солее, звучали не громко, но душевно. Монах-канонарх расстарался, подобрал иноков так, чтобы их проникновенное пение усиливало благолепие церковной службы, передавало трепетное преклонение перед святым игуменом.
Чтец на клиросе провозгласил Похвальное слово преподобному Сергию. Называв его святые деяния, помянули как одно из главных то, что вооружил чудотворец своим благословением князя Дмитрия Ивановича для победы над варварами, хвалящимися разорить наше отечество.
Слушая эти слова, представил себе игумен Мартиниан, как после службы и трапезы преподобный Сергий провожал Дмитрия Донского в поход против татар. Князь, откинув свой плащ, склонился перед святым, встав на колено. И вся дружина его, малая числом, сделала то же самое. Возложил Сергий свои руки на голову великого князя, перекрестил его, идущего на великую Куликовскую битву, и шепнул в самое ухо: «Победиши враги своя».
Пока читал велегласный дьякон слово, пока провозглашал премудрости библейские, виделось отцу Мартиниану, как два путника пробирались по глухой чаще радонежских лесов, где еще не было ни дорог, ни тропинок. Один из них в иноческой одежде, это брат Сергия Стефан, уже познавший горечь жизни, похоронивший жену. А другой — юноша Варфоломей, будущий Сергий. И показалось отцу Мартиниану, что похож был Варфоломей на того несчастного, что резал свою одежду у монастырских ворот и жалобно кричал, когда вели его слуги к храму. Оглянулся игумен — и словно с глазами самого Варфоломея встретился с глазами юного боярского сына. Тот сидел на корточках около раки, прислонившись затылком к ее стенке. Голова склонилась набок, как у пойманного птенца, а глаза... глаза были скорбные, недоумевающие, молящие...
В храме раздавались слова, будто повторяющие видения отца Мартиниана:
— Преподобие и Богоносне Сергие, любви ради Христовой все оставил, и в пустыню вшед, не убоялся коварства невидимых врагов, многажды приходящих на тебя и скрежетанием зубов ярость свою показующих; ты же молитвами твоими, яко дым, рассеивал их. Взываем к непорочной твоей душе и к крепкому терпению твоему! Христа непрестанно моли, спастися душам нашим...
Отец Мартиниан стоял перед иконой преподобного Сергия, что лежала на аналое посреди церкви, и смотрел в глаза святого старца, изображенного уже в преклонном возрасте, с бородой и короткими волосами, с мягким добрым лицом и всепонимающи-ми глазами.
И в третий раз за нынешний день, следя уголком глаза за отроком у раки святого, обратился Мартиниан мысленно к преподобному:
— Сергие преподобный и богоносный! Умоли Господа прославить твою обитель чудом чудесным! Изгони бесов из отрока сего, дай ему познать радость жизни, разреши молиться за тебя Богу и Спасу нашему!
Игумен пошел по кругу внутри храма и остановился у раки святого. Дьякон, прислуживающий ему, встал рядом, держа в руках Евангелие. Отец Мартиниан взял Евангелие и осторожно, чтобы не испугать юношу, положил святую книгу на голову его. Отрок застонал, словно собрался умирать, и пал на пол к ногам иеромонаха, распластавшись и широко раскинув руки в стороны. Глаза у него закрылись, щеки еще больше побледнели, и несчастный отец кинулся к сыну, думая, что тот умирает. Игумен остановил его одним словом: «Молись!» Боярин пал на колени, сложил руки и зашептал какие-то слова, из которых слышно было только: «Боже праведный... Царица Небесная... преподобный Сергие...»
Отец Мартиниан обратился ко всем: «Молитесь!» — и сам преклонил- колени у раки, касаясь лбом покровной пелены, где искусно был вышит шелками образ лежащего святого. Игумен повторял слова молитвы, которые велегласно читал дьякон:
— О, священная главо, преподобие отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, которое сам пас, и не забуди посещать чад своих. Моли за нас, отче священный, за детей своих духовных, яко имеешь дерзновение к Небесному Царю. Не презри нас, верою и любовию чтущих тебя. Поминай нас, недостойных, у престола Вседержителева и не переставай молиться о нас Христу Богу: ибо дана тебе благодать за нас молиться...
Отрок зашевелился, приподнял голову, и глаза его были ясными и светлыми, словно отразился в них огонь всех свечей храма.
Падая, он, видимо, рассек себе голову, и теперь по лицу его текла струйка крови. В церкви стало тихо, так что слышалось потрескивание свечей и легкий звон цепочек кадильницы в руках у служки.
— А я самого Сергия видел,— тихо сказал отрок, не вставая с колен.— С ним ангел был...
По храму прошел вздох. Боярин опять кинулся было к сыну, но снова отец Мартиниан остановил его.
— Молись, молись, отче, за сына своего. И он сам пусть молится.
Игумен положил руку на светлую голову и тихо спросил:
— Молиться умеешь?
— Нет,— ответил ясно отрок.
— Смотри на отца своего и делай, как он. Святой Сергий смотрит на тебя.
Игумен благословил отрока и пошел к Царским вратам. Присутствующие в церкви пали на колени, истово крестясь. Зазвучали слова, восхваляющие преподобного Сергия:
— Светоносный твой праздник, преблаженный Сергие, исполни радости и веселия духовного, благоухания и просвещения, ибо ты заступник наш и правило монашествующим. Молитвою непрестанною к Богу обращаясь, трисолнечным сиянием озарился еси... Трисолнечным светом издалеча сияя, твоим певцам свет даруй, и спасение, и миру мир... После службы игумен Мартиниан подошел к отцу отрока. Слезы непрестанно текли из глаз боярина. Он не вытирал их, а только крестился, целуя часто гробницу чудотворца Сергия и шепча:
— Преподобный Сергие, благодарю тебя невыразимо. Милость великую проявил Господь Бог по твоим молитвам... Отцу дал отраду и утешение... Чаду жизнь новую даровал... Матери — несказанную радость... По обету своему оставляю я чадо свое в обители твоей, преподобный и богоносный отче наш Сергий! Пусть поживет здесь, укрепится духом под защитой твоей, пусть послужит Господу Богу нашему, и если сподобится — станет иноком, богомольцем за все грехи наши...
Отец Мартиниан спросил еще не пришедшего в себя отрока:
— Ведаешь ли, что произошло?
— Не ведаю, отче,— тихо ответил тот.
— Чудо свершилось великое по молениям преподобного Сергия,— пояснил игумен,— Близко стоит чудотворец к Господу, слушает Тот молитвы своего святого... Вот и ты молись, чадо! Молись, сколько тело выдержит. Молись Господу Богу нашему, и Пресвятой Его Матери, и всем святым, а особенно преподобному Сергию. И не выходи пока из монастыря. Здесь тебя стены защищают. А я благословляю тебя на новый путь...
Люди не хотели уходить из церкви. Правда, Па-хомий Серб одним из первых удалился в свою келью, чтобы записать виденное в этот день. Многие иноки тоже ушли для свершения келейного правила. Но миряне толпились в храме, тихо и благоговейно обсуждая новое чудо преподобного Сергия. Страждущие и болящие не отходили от раки, горячо молясь и испрашивая великую милость для себя. Многие касались руками исцеленного юноши, будто и на них могла распространиться часть благодати, сошедшая на него.
Отец Мартиниан попросил принести переписанное житие преподобного Сергия и читать его у гроба, пока молящиеся пребывают в церкви. Чувствовал он, что всю эту ночь храм останется открытым, я будут в нем звучать слова Епифания Премудрого и Пахомия Логофета, прославляющие русского святого, чудотворца Сергия Радонежского.
«...О пастырь добрый и истинный строитель, наставник и учитель иноческого жития,
отцов слава,
преподобных иноков наставник,
монастырского общежития установитель и собеседник бесплотных,
странникам питатель,
нищим богатое сокровище,
недужным врач,
пленным освободитель,
путникам спутник,
в море плавающим кормчий,
слепым поводырь,
старости жезл,
заблуждающихся наставник,
небогатых умом учитель,
сокровенного возвеститель,
в скорбях утешитель,
царям православным миротворец,
победитель противников их и податель сил для борьбы с поганым!
Предстоя пресвятой Троице, не оставляй и нас, не забывай стадо, мудро тобою собранное, сохрани Богом дарованную тебе паству, защищая нас и сохраняя от наступающих врагов, чтобы мы, охраняемые твоими молитвами, сподобились Царствия Небесного...»
За время службы облака почти рассеялись, и на небосклоне появилось заходящее солнце. Небольшая серая туча как-то по-особому перекрыла его и оказалась обведенной горящей золотой каймой. Из-под нее выбивался яркий прямой луч. Перекрещиваясь с ровным, вытянутым над горизонтом облаком, он образовывал в небе огромный крест, такой яркий и убедительный, что люди, выходящие из храма, останавливались в изумлении и благоговейно склоняли головы, принимая этот крест в высях небесных как знамение, как покровительство небесных сил живущим на Земле, как знак благоволения Господа ко всем молящимся в святой обители.
Опять на землю пришла мокряница-осень. Все чаще стали путь северные неуютные ветры, чистое бесконечное небо скрывалось за войлочными облаками. Впрочем, сейчас, в начале сентября, дни стояли спокойные и светлые, словно сама Богородица заботилась о том, чтобы к ее празднику — Рождеству—в природе и в душах царила радость.
Рождество Пресвятой Девы Марии было вчера, и в Троицкой обители отметили его достойно, с чистой душой и светлыми мыслями, с превеликим усердием вознося хвалу простой женщине из небольшого галилейского города Назарета, родившей Иисуса Христа, Спасителя мира.
Отец Мартиниан особенно любил этот праздник. Наверное, так же как Пасху — Воскресение Христово, когда ликует все живое на земле. Но Рождество Пречистой Девы он выделял потому, что в Ферапонтовой обители, где прошло столько лет его игу-менствования, храм был освящен в честь этого славного события, и вот уже полвека монастырская братия молилась в Богородичной Рождественской церкви, ежегодно с любовью и трепетом душевным отмечал свой храмовый праздник. Уже несколько лет отец Мартиниан был настоятелем в обители преподобного Сергия, однако в этот день душа его переносилась на север, на берег Бородавского озера, где на холме среди обряжающихся в осенний свадебный наряд лесов стояла тихая обитель — его земной приют долгие годы, дом Богоматери, которым управлял игумен в меру своего разума, где он искал спасения и где вел не всегда стойкую братию к Царствию Небесному.
Но вчерашний праздник прошел, прошла и тоска по благословенным северным местам, где Бог сподобил его родиться и служить Ему, Господу. Сегодня был день поминовения праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, и сейчас в трапезной палате, где в безмолвии вкушали иноки скромную пищу, молодой и по-юношески румяный монах звонко читал слово на Рождество Пресвятой Богородицы святителя Андрея Критского.
— Люди Божий, язык святой, собрание священное! Почтим отеческую память; возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по вере данной ему благодати, да принесет достойный дар настоящему торжеству. Отцы — благоденствие рода; матери — благочадие; неплодные — неплодство греха; девы — сугубое целомудрие, то есть души и тела; брачные — похвальное воздержание. Если кто из вас отец — да подражает отцу Девы; хотя кто и бездетен — да пожинает плодотворную молитву, возрастающую из Богоугодной жизни. Мать, питающая чад своих, да радуется вместе с Анной... Неплодная... да приходит с верой. Дева, непорочно живущая, да будет матерью слова, украшая словом благолепие души, брачная — да приносит умную жертву от плодов молитвы. Все вкупе да торжествуем в честь отроковицы, Матери Бога: из Нее исшел Пророк... Христос Бог, Истина. Аминь.
Пока розовощекий юный монах читал Похвальное слово, отец Мартиниан, сидящий за общею трапезой и вкушавший общую пищу, думал о том, что вот Евангелие почти ничего не рассказывает о родителях Девы Марии, а ведь жизнь их была праведна и горестна... Долго не имели они детей. Наказанием за тяжкие грехи считалось это у евреев. Сколько гонений, сколько несправедливых поношений приходилось терпеть супругам от соотечественников... Как опечалился праведный старец, когда во время большого праздника первосвященник отказался принимать дары, которые Иоаким принес в Иерусалим для жертвы Богу. Считая себя самым грешным из людей, решил он не возвращаться домой и поселиться в пустынном месте. Анна же, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве просить Бога, чтобы даровал им ребенка. Сколько же времени молились они вот так, вдвоем, но в разных местах? Какие словеса говорили, пока услышал милосердный Господь молитвы праведников, и архангел Гавриил принес им весть о рождении дочери, как потом возвестил самой Деве Марии о рождении Сына. Старые уже супруги дали обет посвятить дитя, которое им пошлет Господь, Богу... Радовались престарелые родители появлению дочери, хотя вряд ли понимали они слова архангела о том, что через Нее будет даровано спасение всему миру. Ибо по промыслу Божиему надлежало Марии послужить, тайне Воплощения Бога Слова — явиться Матерью Господа нашего Иисуса Христа...
Трапеза для отца Мартиниана закончилась неожиданно быстро: за своими размышлениями и раздумьями он не успел съесть того, что полагалось каждому в это утро. Впрочем, игумен не придал этому никакого значения. Он привык есть мало и, если случалось оставаться без еды, легко переносил голод. Телесный бунт он давно уже научился заглушать молитвами и делами.
Раздался тихий звон колокольца: это монах после чтения молитв и писаний святых отцов дал знак к окончанию трапезы. Иноки дружно встали и, произнося тихую молитву, возблагодарили Господа за дары Его.
Трапезная быстро опустела, монашествующие разошлись на различные послушания. Еще вчера игумен и келарь Иларион обговорили, куда и сколько человек надо послать, а сегодня уж келарь сам дал каждому иноку дело.
Отец Мартиниан направился в свою игуменскую келью, где его ждало важное дело, можно сказать, святое. Вчера серб Пахомий, священноинок, прибывший в Россию со святой горы Афон, великий книжник и словописец, принес настоятелю свой большой труд — «Житие преподобного Сергия Радонежского». Вообще-то житие троицкого игумена было уже написано более четверти века назад. Инок обители Живоначальной Троицы Епифаний, за свою ученость прозванный Премудрым, двадцать лет собирал материалы об основании монастыря, о детских и юношеских годах отрока Варфоломея, как звали преподобного Сергия в миру, о его родителях, братьях, о подвигах на монашеской стезе. Потом составил он житие основателя обители, где описывалась жизнь святого старца от рождения до самого преставления. Но вот беда — читать это житие или отрывки из него во время церковной службы или в трапезной было тяжело. Уж очень витиеват и словообилен был труд Епифания. Вся ученость монаха, все его благоговение перед святым отцом Сергием вылились в такое премудрое длинное, хитросплетенное повествование, что русские первоиерархи задумались над тем, как бы переделать это писание.
Поэтому и получил умный и скорый на руку серб заказ от митрополита Ионы и настоятеля Мартиниана переделать Епифаниево творение так, чтобы можно было читать его на службе, в день прославления преподобного. К этой вечнопамятной дате хотел отец Мартиниан иметь новое, переделанное житие преподобного Сергия, дополненное различными чудесами, которые произошли в обители уже после смерти святого.
Троицкий игумен только что вернулся из стольного града Москвы, где собирался освященный собор. Первоевятитель Иона, ставший уже законноиз-бранным митрополитом Русской земли, и архиепископы, и епископы, и игумены больших монастырей дружно порешили считать Сергия Радонежского общерусским святым. Установили и дни поминовения чудотворца: 5 июля, когда были открыты мощи святого, и 25 сентября, когда он преставился. Вот и заботился отец Мартиниан о службе святому, благолепии и достоинстве ее, о создании жития, которое читалось бы по всем городам и весям.
Игумен вышел на монастырский двор и остановился у порога трапезной, ослепленный после полумрака палаты нежным, ласковым светом, похожим на сияние золотых нимбов икон. Предивная погода стояла в эти праздничные дни! Видно, самому Господу захотелось, чтобы сияло все кругом небесным светом в честь Рождества Его Пресвятой Матери и Ее праведных родителей.
— Благодарю Тебя, Боже, за сию несказанную благодать! — тихо произнес игумен, благоговея перед дивным Божиим творением под названием Земля.
Монастырский двор чуть поднимался посредине, сохраняя еще очертание того холма, который прозывался «Маковец» и на который пришел юноша Варфоломей, чтобы поставить келью и жить здесь в посте и молитве. На макунше пологого возвышения выросла одинокая сосна, высокая, прямая, похожая на гигантскую свечу, у которой вместо пламени — сочная зелень вершины. Зато ствол напоминал саму свечу, сделанную из хорошего воска. Он золотился в неярких утренних лучах, так что хотелось потрогать и приласкать это высокое живое существо, которое Господь окрестил Деревом и не дал ему возможности двигаться, а определил стоять на одном месте, держась за землю-матушку корнями.
Под сосною лежал валун, и если сесть на него и смотреть вперед, то храм Живоначальной Троицы оказывался как бы немного внизу. Взгляд охватывал его целиком, от основания до креста на маковке. Эта каменная церковь, построенная преподобным Никоном уже после открытия мощей святого Сергия, была хороша и сложена дивно. Ученик и преемник радонежского чудотворца соорудил храм в честь Пресвятой Троицы над гробом своего учителя и наставника, так что авва Сергий, взирая на него с неба, должен был остаться довольным делами рук человеческих.
Мартиниан остановился у той сосны, радостно выросшей на свободе, перекрестился трижды на храм Божий, произнося про себя молитву в честь Пресвятой Троицы и привычно окидывая взглядом монастырский двор. Иноки уже приступили к своим послушаниям: в дальнем углу пилили и кололи березовые стволы — заготавливали дрова на зиму; над хлебней вился дымок — пекли хлебы на три дня; несколько монахов с корзинами шли к монастырским воротам — им сегодня собирать морковь на нижнем огороде.
Из поварни с коромыслом на плече вышел юноша Леонтий. Пустые ведра раскачивались в такт его шагу, и был он празднично веселый, даже нарядный в своей светлой рубахе среди черных ряс иноков. Отец Мартиниан, как всегда при виде этого молодого еще человека, внутренне вздрогнул, словно видел перед собой не обыкновенного юношу, а нечто чудесное и непонятное. Да ведь и вправду необычно все, связанное с этим человеком, ибо был он овеян славой чуда преподобного Сергия.
Игумен хорошо помнил тот день. Отмечали память святого апостола и евангелиста Луки, в храме шла литургия. Отец Мартиниан стоял на своем обычном игуменском месте, слушая и запоминая огрехи в службе молодого священника, чтобы потом сказать ему об этом.
Когда началась проскомидия и двери в алтарь, где на жертвеннике священник готовил просфоры и вино для святого причастия, закрылись, в храме почувствовалось какое-то движение. Игумен заметил юношу, которого раньше не видел в монастыре, и потому сразу обратил внимание на бледное, худое лицо и на левую руку, скрюченную, ссохшуюся от болезни и прижатую к ребрам. Юноша осторожно, стараясь никого не задеть, пробирался к правому углу, к раке преподобного Сергия. Игумен понял, что это один из страждущих, которые часто появлялись в обители. Одни из них уходили, не получив быстрого исцеления, другие задерживались надолго, но потом все равно исчезали, не дождавшись чуда. Этот сухорукий был необычен. То ли выражение лица его, то ли широко открытые глаза с каким-то потусторонним взором приковали внимание игумена, и он, произнося слова молитв, краем глаза все время следил за юношей, словно ждал чего-то.
Открылись северные двери. Священник с дьяконом, который нес в руках святое Евангелие, вышли из алтаря на амвон. Провозгласили «Премудрость, прости!» Это означало, что сейчас будут читать Евангелие и все, находящиеся в храме, должны слушать со вниманием и благоговейно. Дьякон изобразил Евангелием крест в воздухе, и певчие затянули «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас». Эту молитву прочли три раза в честь трех лиц Святой Троицы.
Юноша стоял у раки преподобного и творил земные поклоны, опираясь по одну руку и обращаясь с мольбой к святому. На него стали оглядываться: очень уж истово бил он лбом о каменный пол и шептал слова молитвы.
Вот младчеловек сотворил очередной поклон, припал к гробнице и вдруг возопил громким голосом: «Моя рука!» Осторожно оторвал он левую руку от бедра и заговорил уже тише, глядя остановившимися неземными глазами перед собой: «Вижу святого Сергия! Стоит он у своего гроба и повелевает мне протянуть сухую руку!» Юноша медленно вытянул левую руку вперед, пошевелил пальцами и снова припал лицом к гробнице, целуя ее и крестясь. Стоя на коленях и держась рукой за раку, он громко, на всю церковь, восклицал: «Благодарю тебя, великого в чудесах, за милость твою! Благодарю, что узрел мои страдания с высот небесных и умолил Господа нашего дать мне исцеление! Отче милосердный, Сергие многомудрый, доброта твоя неизреченна! Всюду буду свидетельствовать о твоем великом чуде, преподобный отче наш!»
Все бывшие в храме, все иноки и сам игумен стояли в взликом страхе, удивленные чудесным зрелищем. Ведь видели, что юноша пришел со скрюченной, больной рукой. И вот на глазах у всех свершилось чудо!
Немало времени истекло, пока присутствующие пришли в себя. Юноша все ликовал и благодарил преподобного Сергия, а следом за ним воздали хвалу Богу и его святому угоднику — чудотворцу Сергию все остальные.
Докончили литургию, приняли святое причастие, и только после этого игумен и монахи стали расспрашивать юношу о нем самом. Тот рассказал, что зовут его Леонтий, сам он из Вышгорода на Протве, сын благородного старейшины города. Долго странствовал он по разным землям, бывал в храмах и монастырях, молил Бога исцелить иссохшую руку, избавить от страданий. Однажды пришел он в село, принадлежавшее Троицкому монастырю, заночевал в доме одной вдовицы. Тут-то во сне явился к нему сам Сергий и сказал: «Чадо, если хочешь полностью исцелиться, иди в обитель Троицкую, о которой ты много слышал и которую сам увидишь, и будет тебе по желанию твоему, а ты воздай славу Богу». Вот и пришел юноша в монастырь, и у раки преподобного исполнилось то, что обещал святой в видении.
Игумен Мартиниан подошел к Леонтию, осторожно взял его сухую, искореженную прежде руку в свою и поднял кверху. Рука, такая тонкая, но живая, прямо на глазах наполнялась кровью, розовела, и кожа как будто оживала, из пергаменной превращалась в упругую, здоровую.
Как долго, с какими благодатными слезами, с каким душевным трепетом молились в этот день все бывшие в обители! Весть о чуде мигом распространилась по окрестным деревням, и в монастырь стал собираться народ. В храме звучали молитвы преподобному Сергию, прославляя великого чудотворца.
— О великий заступник рода христианского, теплый ходатай ко Всещедрому Богу о всех православных, неусыпный сохранник рода Российского, скорый помощник в бедах всем, к тебе с верою и любовию притекающим, отче святый, от Отца Небесного чадам твоим данный...
Игумен повелел достать из ризницы рукописную книгу с «Похвальным словом Сергию Радонежскому», составленным еще Епифанием Премудрым, и дьяки читали его у раки святого, прерываясь для молитв Господу Богу, Живоначальной Троице, Пресвятой Богородице и самому Сергию. Весь этот день до позднего вечера двери храма не закрывались и присутствующие здесь вспоминали многие чудеса, совершенные троицким игуменом при жизни его и после смерти.
Священноинок Пахомий Серб тут же записал необычное событие, которому был свидетелем. Особенно понравилось отцу Мартиниану, как святого-рец подчеркнул то, что сам видел все своими глазами: «И вот вся предстоящая братия и я, недостойный Пахомий, писавший в это время житие святого, с ужасом увидели чудо...» Легкий на слова серб честно признался в том, что был до этого побежден маловерием, а святой укрепил его в вере, «как это случилось с епископом, пришедшим из Цареграда...» Это вспомнил афонец случай из жизни преподобного, когда посетил его в обители епископ из Константинополя. Много слышал он о Сергии, но одержим был неверием и говорил: «Как может в этой земле такой светильник появиться?» Пришел в обитель, однако за сомнения поражен был слепотой. Преподобный же взял его за руку и ввел в келью свою. Лишь покаявшись, получил епископ прощение, снова прозрел и отправился в путь, славя русского святого.
После того как прочитал отец Мартиниан описание чуда, сделанное Пахомием, уверовал он в книжные способности священника, пришедшего в далекую Русь со славной горы Афон, ничего не зная о жизни русичей, не ведая их святынь, не понимая их бытия, сомневаясь в богоизбранности таких светильников, как преподобный Сергий. То, что серб покаялся в этом и признался, что сам уверовал в святость троицкого игумена после свершившегося чуда, расположило Мартиниана к приезжему составителю книг и сочинителю житий. И подумал игумен, что если Бог даст, пусть напишет также Пахо-мий, именуемый по-гречески Логофет, житие преподобного Кирилла, любимого учителя и наставника Мартиниана.
...Юный Леонтий подошел к настоятелю, опустил коромысло с пустыми ведрами на землю и сам упал на колени, крестясь и творя земные поклоны.
— Что ты, чадо? — ласково спросил отец Мартиниан.
— Дозволь слово сказать,— явно волнуясь, ответил тот.
Игумен заметил, что бывшая прежде сухой рука набрала кровь и плоть и стала почти неотличима от другой, пребывающей всегда в жизненной силе.
— Говори, чадо,— все так же ласково ободрил Мартиниан юношу.
— Не сердись, отче, не упрекай в неблагодарности, не осуждай меня, грешного... Хочу я покинуть монастырь... Тесно мне стало здесь... Хочу пойти по Руси, рассказывать всюду о чуде преподобного Сергия, чтобы в городах и весях узнали о великой святости отца нашего и учителя, чтобы прославляли его не только в обители и в округе нашей, а далеко за пределами...
Отец Мартиниан живо откликнулся на порыв юноши. Бережно помог ему подняться с земли, перекрестил и положил руку на голову:
— Иди... Иди, сын мой! Благословляю тебя на путь дальний и трудный, благословляю на служение святое, на прославление преподобного Сергия, игумена всей земли Русской.
Юноша с почтением поцеловал руку Мартиниана.
— Когда собираешься покинуть обитель?
— Сегодня... Вот воды в поварню натаскаю, помолюсь у гроба Сергиева и пойду потихоньку.
— Помолись, чадо. Да в странствиях своих не забывай обитель преподобного, возвращайся почаще к Животворящей Троице, к раке святого. Он тебя среди других страждущих выделил, за искреннюю веру твою отметил, Господа нашего проявить милосердие умолил... Не забывай несказанной милости Его!
Юноша взял коромысло с ведрами и бодро пошел к воротам. Там, за оградой, под горой, был колодец, который все звали Сергиевым. Возник он тоже чудесным образом. Когда иссякла вода в монастыре и не стало ее хватать для всех поселившихся тут, возроптала братия, упрекая преподобного:
— Зачем ты, не подумав, решил на этом месте, где воды нет поблизости, обитель создать?
Святой отвечал им:
— Ведь я один на этом месте собирался безмолвствовать, Бог же захотел обитель воздвигнуть, чтобы прославлялось святое имя Его.
Вышел он из монастыря, взяв с собой одного брата, спустился в глушь леса около обители. Нашел во рву немного воды от дождя и помолился. И когда преподобный осенил то место крестом, там внезапно появился большой источник, который сохранился и доныне. Из него черпали воду для всяких нужд, а некоторые особо верующие даже исцелялись от болезней и страданий.
Игумен Мартиниан перекрестил удаляющегося юношу и пошел в свою келью, куда должен был прийти и афонский священноинок, в очередной раз переделав житие преподобного Сергия.
Пахомий Серб честно отрабатывал заказы великого князя и русских иерархов. Писал он быстро и умело, материалы собирал тоже весьма борзо, не спорил, если просили переделать, только набавлял цену за свою работу.
Он приехал на Русь давно, успел пожить в Новгороде и написать там житие новгородского святого Варлаама Хутынского. Потом, еще до Мартиниана, перебрался в Троице-Сергиеву обитель, составил здесь житие преподобного Никона, бывшего игуменом после Сергия, переписывал книги и уже трижды переделывал житие троицкого чудотворца.
Отцу Мартиниану, основательному, медлительному по природе, любовно вникающему во все мелочи, не понравился поначалу быстрый сербин и то внутреннее безразличие, которое ощущалось в его скорой работе. Он внимательно слушал заказчиков и писал так, как просили. Но не было, не было в душе его трепета, не было преклонения перед русскими святыми. Правда, молился он усердно и много, а в церкви Живоначальной Троицы особо выделял храмовую икону, написанную более четверти века назад чернецом Андреем Рублевым. Когда монахи расходились по кельям, Пахомий часто в одиночестве стоял перед этим образом и однажды даже сказал отцу Мартиниану:
— Видно, и вправду велик был этот ваш святой Сергий, если в похвалу ему пишутся такие иконы...
Игумен сухо поправил святогорца:
— В похвалу Пресвятой и Живоначальной Троице создал свой храм преподобный отец наш Сергий и потом уж возвел в камне наследник его Никон. Икона чернеца Андрея тоже прославляет Единосущную и Неразделимую Троицу, мир и покой, которые царят между тремя лицами Ее: Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом—Духом Святым.
Пахомий, как обычно, возражать не стал, только прочел молитву во имя Святой Троицы. Потом же, глядя на светлые лики ангелов, на их тихую, внутренне мудрую, безмолвную беседу, попросил:
— Расскажи, отче, об этом чернеце...
Отец Мартиниан обрадовался просьбе. Уже давно раздумывал он о том, как разбередить душу спокойного чужестранца, как зажечь в ней хоть маленький огонек того живого огня, который горит в душах русских людей при упоминании имени преподобного Сергия. По прибытии в монастырь отец Мартиниан, помня просьбу великого князя и рязанского епископа Ионы, сразу прочитал «Житие преподобного Никона», созданное Пахомием. Оно не понравилось новому игумену: написано скупо и кратко, быстрой небрежной рукой, с холодным сердцем. Поэтому, рассказывая Пахомию об иконописце, Мартиниан особо подчеркнул, что тот долго молился и безмолвствовал, прежде чем приступить к созданию иконы. Говорил о возвышении духа, которое достигается через великий пост и длительные молитвы, говорил о Божьей благодати, которая через живописца или писателя житий воплощается в его замысле, чтобы потом перейти к другим людям, которые должны почувствовать живое Божественное начало в законченном труде.
Как хотелось троицкому игумену пробудить душу этого мудрого и способного писателя, как старался он внушить афонцу великое почтение к тем русским святым, жития которых составлялись. Как желал он, чтобы из-под быстрого пера афонского инока выходили словеса божественные, песнопения и молитво-словия, вошедшие бы на долгие годы в обиход Русской Церкви.
— Молись преподобному Сергию,— увещевал он Пахомия,— чудотворец наставит тебя, благословит твои писания, вдохнет в них Дух Святой.
Мартиниан читал сербу начальные страницы «Жития преподобного Сергия», которое составил еще Епифаний Премудрый. Читал медленно, с душой, стараясь, чтобы афонец полюбил кроткого старца, прожившего жизнь в смирении и молитвах, отказываясь от почестей и святительской власти.
Иногда он сам просил священноинока почитать житие Сергия, и тогда тот, все еще плохо выговаривая русские слова, выразительно произносил:
— Благодарим Бога за Его великую благость к нам... Ныне же мы должны особенно благодарить Всевышнего за то, что Он даровал нам такого святого старца,— я говорю о преподобном Сергии,— в нашей Русской земле и в нашей северной стране, в наши дни, в последние времена и годы просиявшего. Гроб его находится у нас и перед нами, и, приходя к нему с верой, мы всегда получаем великое утешение нашим душам и большую пользу; воистину это великий дар, дарованный нам от Бога...
Переделывая написанное, Пахомий вычеркнул было все рассуждения инока Епифания о том, что прошло уже много лет после смерти Сергия, а жития его все еще нет. Мартиниану как раз нравилась живая речь, нравилось обращение к читателям. Казалось, что премудрый инок беседует со своей братией по монастырю и по-человечески удивляется этой несуразице.
— Я горько опечален тем, что с тех пор, как умер этот святой старец, пречудный и совершенный, прошло уже двадцать шесть лет и никто не дерзнул написать о нем — ни близкие ему люди, ни далекие, ни великие, ни простые: великие не хотели писать, а простые не смели...
Называя себя «окаянным и дерзким», Епифаний говорил о том, как начал он «подробно и понемногу» собирать рассказы о жизни старца, как за двадцать лет составились у него списки, с которыми он и не знал, что делать. Мудрые и рассудительные старцы сказали ему:
«Если будет написано житие мужа святого, то от этого будет большая польза и утешение и писателям, и рассказчикам, и слушателям; если же не будет написано житие святого старца, а знавшие и помнившие его умрут, то нужно ли такую полезную вещь оставлять в забвении и, как пучине, предавать молчанию. Если не будет написано его житие, то как узнать не знавшим его, каков он был или откуда происходил, как родился, как вырос, как постригся, как воздержанию подвизался, как он жил и каков был конец его жизни. Если же житие будет написано, то, услышав о жизни старца, кто-нибудь последует его примеру, и от этого получит пользу...»
Отец Мартиниан попросил Пахомия оставить все рассуждения Епифания в предисловии, и сам часто повторял слова отца церкви, архиепископа Кесарий-ского Василия Великого, которые записал и Епифаний: «Будь подражателем праведно живущим и запечатлей их жизнь и деяния в своем сердце».
Отношение игумена к иноку с Афонской горы изменилось после чуда с сухоруким юношей Леонтием, которое наблюдали все, в том числе и сам Пахомий. Потрясло оно серба, и видел отец Мартиниан, что афонец даже с лица спал от того деяния, что произошло на глазах всего народа. Проникся свято-горец верой в русского святого, жизнью своей беспорочной сподобившегося творить чудеса и при жизни, и после смерти. Еще заметил монастырский настоятель, что бережнее стал относиться Пахомий к творению Епифания Премудрого. Переделывал его строки с внимательным старанием, чаще советовался с игуменом, что сократить, а что оставить, спрашивал о мелочах, на которые прежде не обращал внимания. Больше стал думать приезжий афонец о святом старце Сергии: об основании обители, в которой пребывал, о различных эпизодах жизни преподобного, которые уже были известны ему из Пахомиева жития. А еще размышлял он о различных чудесах у гроба святого. Тут уж Пахомий вопрошал игумена о каждом случае, слушал многих людей и запоминал подробности... Понял чужеземец, что и здесь, в далекой от Афона северной земле, сияют настоящие светильники Божьей мудрости, достойные преклонения и прославления.
Вот и сегодня принес святогорец своему игумену еще одну главу о чуде, бывшем в монастыре у гроба святого Сергия, о чуде, тоже случившемся при Мар-тиниане. Настоятель хотел прочитать ее до прихода Пахомия, но беседа с юношей Леонтием задержала его, и он не успел оценить новые страницы труда сербина.
Они встретились около кельи игумена. Пахомий тихо сказал: «Мир тебе, отче», на что Мартиниан так же тихо ответил: «И с тобой да пребудет Благодать Божия». А потом, уже в келье, настоятель попросил инока Пахомия самого прочитать эти строки, ибо скоропись писателя была трудна для него. Сербии, держа листы почти перед собой — глаза уже плохо видели,— читал быстро и неинтересно, словно и не случилось ничего особенного...
— «Был великий праздник. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, по-другому сказать — всего мира радость и воскресение. Игумен Мартиниан со всем собором в великой лавре Сергеева монастыря совершат праздничную службу, проведя эту светозарную ночь за чтением, канонами, совершив по обычаю утреню и Божественную литургию. И повелел игумен устроить братии большое угощение, что и сделали. Поутру в понедельник зазвонили к утрене. И когда игумен с братией собрались по обычаю в церковь, подошел к игумену келарь Иларион и рассказал об иноке Маркелле, о случившейся с ним необычной болезни... Игумен, услышав о происходящем, тотчас пошел с келарем в пекарню, взяв с собой икону чудотворца, стоявшую над его гробом, и стал петь молитвы Пресвятой Богородице и чудотворцу Сергию...
Отец Мартиниан перенесся мыслями в то утро...
Хлебопекарня представляла собой зрелище, поистине приводящее в ужас: бесноватый инок-пекарь сидел на стуле и никому не давал подойти к себе. Рот его был чудовищно отверзт, а изнутри исходили голоса, похожие на раскаты грома. Рядом в растерянности стояли другие монахи. Игумен тогда сразу начал молебен, а потом вышел из монастыря на литию и множество людей вместе с ним шли вокруг обители с иконами, пением тропарей, совершая праздничную службу как подобает.
Возвратились в монастырь, Маркелл как бы пришел в себя и стал рассказывать, что приступил к нему лукавый и начал терзать его внутренности, и оттого он кричал и по-скотски, и по-звериному, и по-лошадиному, и разными собачьими голосами, так что вой был слышен далеко за монастырем.
Отец Мартиниан совершил молебен Пресвятой Богородице и преподобному Сергию и велел отвести Маркелла в церковь Живоначальной Троицы, ко гробу чудотворца. Тот упирался, не хотел идти и бесчинствовал. Его повели силой, а уже в храме бесноватый стал понемногу успокаиваться, пал ко гробу чудотворца, молился и наконец погрузился в тонкий сон.
— Игумен велел разбудить его,— читал Пахомий,— и, поднявшись, Маркелл начал рассказывать: «Когда я заснул, то увидел игумена Мартиниана, со всеми священниками, клириками и старцами поющего молебен посреди церкви... Я смотрел на это, и вот от северных дверей явился человек с прямыми волосами, искрящимися глазами, в грязной одежде до колен. Видение это было красного цвета. Человек приблизился к игумену с яростным воплем: «Ты зачем меня обижаешь?» — и, схватив игумена, стал с ним бороться. Тогда из алтаря вышел благолепный старец в священнических одеждах, с жезлом; мне казалось, что я вижу святого Сергия, как пишут его на иконах. Подойдя, ударил он лукавого старца-злодея жезлом по голове, говоря: «Зачем ты трогаешь рабов Божиих, служащих Богу день и ночь?» И тотчас окаянный стал невидим».
Пахомий замолчал.
— Это все? — спросил отец Мартиниан.
— Все, отче.
— Добавить надо... Помнишь, говорил инок Маркелл о том, что весь Светлый понедельник слышал он, как вопили бесы дурными голосами. А совсем освободился он от них только ночью, и с тех пор уже не слышал их голоса... И прибавь обязательно, что исцеление произошло по молитвам Пресвятой Богородицы и чудотворца Сергия перед Господом нашим, ибо Он один способен совершать чудеса.
— Сделаю, отче. Сегодня же допишу,— легко согласился Пахомий, помечая своей быстрой рукой что-то на пергамене.
Отец Мартиниан помолчал, пытливо глядя на афонца, и наконец решился спросить:
— Чадо, про лукавого ты от Маркелла слышал? Пахомий тоже помолчал, потом ответил:
— Слышал кое-что...— и добавил: — Плетение словес есть тайна великая, иногда и не такое напишется...
Снова оба замолчали.
— Убрать? — осторожно спросил Пахомий.
— Оставь, чадо,— улыбнулся про себя Мартиниан,— Почитай-ка мне Похвальное слово святому.
— Похвальное слово преподобному отцу нашему Сергию, созданное его учеником, священноиноком Епифанием,— начал читать Пахомий.
Отец Мартиниан с внутренним удовлетворением отметил, что афонец сохранил название и имя пер-восоздателя слова, скромно умолчав о своих трудах по переделке его. Игумен сам любил это Похвальное слово и читал его в дни памяти преподобного. Читал, конечно, не все, а отдельные отрывки, ибо было оно велико и многонасыщено библейскими словами.
Игумен вдруг решил, что незачем слушать невнятное чтение серба, лучше уж посмотреть на его переделки самому.
— Иди, чадо,— отпустил он Пахомия,— Я сам почитаю. Если захочу что сказать — позову. А ты потрудись над службой преподобному, особенно над каноном с акафистом.
Когда афонец ушел, игумен стал неторопливо и внимательно вчитываться в слова Епифания, которые продиктовало ему благоговейно любящее сердце:
«Святой Сергий стяжал великое воздержание, смиренномудрие, целомудрие и нелицемерную ко всем любовь. Слава о святом разнеслась повсюду, и люди, слышавшие о нем, издалека приходили в обитель Святой Живоначальной Троицы и получали великое благо, большую пользу и спасение, ибо Господь даровал преподобному способность понимать всех людей и утешать опечаленных. Преподобный с вниманием следил за собой, чтобы его ум не прилеплялся ни к каким предметам и житейским заботам; поэтому он не приобрел себе на земле никакого имущества: ни тленного богатства, ни золота, ни серебра, ни сокровищ, ни высоких и роскошных теремов, ни домов, ни богатых сел, ни драгоценней одежды. Вместо всего этого он приобрел истинное нестяжание, бедность и настоящее богатство — духовную нищету, безграничное смирение и нелицемерную любовь ко всем людям. Святой равно любил и уважал всех, не взирая на лица, не разбирая, не судя, ни перед кем не возносясь, не осуждая, не клевеща, не держа против кого-либо злобы и гнева, не имея в себе ярости, жестокости или свирепости. Напротив, слова его всегда были растворены солью благодати и дышали приятностью и любовью».
Особенно выделил Мартиниан слова, на которых задержался в раздумье: «Кого из других святых Бог возлюбил столь же, сколь преподобного Сергия?»
Вспомнился ему опять авва Кирилл, его обитель, любовь Кирилла к нему, Мартиниану... И подумалось, что малы, малы его собственные заслуги перед Господом, потому лишен он той особой благодати Господней, которая дается избранным, и никогда, наверное, не сотворит Бог по его молитвам никакого чуда... Пал отче Мартиниан на колени перед святыми иконами и долго, горячо молился, осуждая себя за греховные мысли, за непомерную гордыню, за дерзкие желания, за мечтания, которые не должны даже приходить ему в голову. И наложил игумен сам на себя епитимью: неделю сидеть на хлебе и воде, читать после вечерней службы вдвое больше молитв и класть вдвое больше поклонов.
Незаметно стали тускнеть яркие краски осени. Зашелестели на ветру осины и березы, с сожалением сбрасывая отслужившую помертвелую листву. Нахмурились ели и сосны, потускнел густой медвяный цвет сосновой коры, и запах молодых еловых веток уже не услаждал душу. Все чаще лились над землей небесные слезы, будто сам Господь Бог и весь сонм святых скорбели о грехах человеческих.
Пришло и 25 сентября, празднование памяти преподобного Сергия. Этот день всегда отмечали в обители, но теперь поминовение должно пройти особенно торжественно и величаво, как и положено для общерусского святого. Житие троицкого игумена было переделано и приспособлено для чтения на службе, были написаны и сама служба, акафист и молитвы преподобному. Отец Мартиниан ждал дня преставления радонежского чудотворца с большим нетерпением и внутренним беспокойством, ибо ныне основателя Троицкой обители приравняли к первой христианке на Руси великой княгине Ольге, к крестителю Руси великому князю Владимиру, к великомученикам-страстотерпцам Борису и Глебу, к основателям монашества в Киевских землях преподобным Антонию и Феодосию Печерским. В эту осень особенно хотелось игумену, чтобы служба святому прошла вдохновенно и величественно, чтобы в храме чувствовалось присутствие Святого Духа, чтобы сам великий чудотворец остался доволен священнодействием в церкви Живоначачьной Троицы.
И — как знать! — может быть, святой отец тайно и невидимо посетит то место, где когда-то поставил одинокую келью, милосердная душа его проникнется болью тех, кто сейчас страдает на земле, и всемилостивый Господь по молитвам своего великого угодника сотворит в обители еще одно чудо...
В эту ночь отец Мартиниан не ложился спать. Прочитав все вечерние молитвы и обойдя в осенней темноте монастырские кельи (игуменская обязанность — блюсти братию!), старец вернулся к себе и еще раз начал просматривать житие преподобного и службу святому. Хотя служба и слово похвальное были закончены, отец Мартиниан, воспитанный учителем своим аввой Кириллом, привык в большой тщательностью относиться к книжным словесам. Потому и сейчас вчитывался он в каждое слово, изредка менял их, вставляя новые. Иногда хотелось переписать заново целые куски, ибо видел шестой троицкий игумен торопливость и некоторую небрежность в словах Пахомия. В писании серба местами не хватало душевности и благоговения, но сейчас уж переделывать поздно. Завтра служба пойдет так, как определено. А потом, когда всё станут переписывать для великого князя и митрополита Ионы, можно будет внести еще кое-какие поправки.
Пахомий хорошо потрудился: сделал свое дело, сотворил акафисты преподобному и Пресвятой Богородице. В последние дни серб работал и ночами, а отец Мартиниан следил за тем, чтобы его не отвлекали, чтобы было у него под руками все нужное, и сам читал то, что выходило из-под пера священноинока. Советовал, поправлял, добавлял и просил, чтобы было как можно меньше греческих слов, которые охотно использовал афонец и которые были непонятны здесь, на Руси.
Серое небо к утру расчистилось, день занялся радостный. Неяркие звезды быстро исчезли в желто-розовом свете восходящего из-за леса солнца. У запертых монастырских ворот уже появились страждущие. В основном это были болящие: они надеялись на чудо, которое может произойти у гроба преподобного в день его памяти. Здесь были люди с искореженными руками и ногами, слепые и немые, глухие и бесноватые, расслабленные и страдающие от различных внутренних болезней. Все молча ждали, когда откроются монастырские ворота, чтобы быстрее других достичь Троицкого храма, оказаться у раки чудотворца, припасть к ней, желательно поближе к изголовью, и молить, молить преподобного Сергия, чтобы даровал исцеление.
Игумен посмотрел в небольшое прорезное окошко на скопившихся людей, и внимание его привлек юноша, почти мальчик, с тонким, прозрачным лицом и огромными глазами. Он сидел на подстилке и резал ножичком свое платье. Рядом находился средовек, наверное, отец, в теплом кафтане и меховой (не по времени) шапке, да еще двое слуг. Эти дремали, свернувшись и укрывшись захваченными из дома тулупами. Видно, боярское дитя было беспокойным, и теперь, когда оно занялось делом, хоть и непотребным, никто его не трогал, не осуждал и ножика не отбирал. Отрок поднял свои огромные глаза и посмотрел на ворота. Игумену показалось, что встретились они взглядами, хоть и было еще сумрачно и туманно, да и окошко в дверях из-за малости своей не открывало целиком лица смотрящего. Отрок забеспокоился, тихо и тоскливо крикнул и замахал бледными, тонкими руками, словно прогоняя игумена. У отца Мартиниана отчего-то сильнее забилось сердце.
Вдруг увиделась ему яркая, как наяву, картина: сидит в горнице у маленького окошка боярыня, приложила руку к щеке, печалится, смотрит вдаль невидящим взором. А глаза у нее большие, грустные, отрешенные, какие бывают на иконах у Пресвятой Богородицы. Только не темные они, а серые, как у многих русских женщин.
Подняв глаза кверху и сложив руки в молитвенном жесте, игумен произнес про себя:
— Преподобный отче, сжалься над бедным отроком и его несчастными родителями...
А там, за воротами, слуги вскочили с земли, сели по бокам юноши, и боярин-батюшка погладил его по голове, чтобы успокоить. Отец Мартиниан перекрестил через окошко отрока, тот вдруг опять закричал и повалился на землю, изгибаясь неестественно всем телом и скуля, как побитый щенок. Игумен побыстрее закрыл окошко ворот и ушел прочь, дав наказ вратарю пускать мирян по колокольному звону.
Ключарь уже открыл Троицкий собор, и отец Мартиниан, пока еще никого не было в храме, сам преклонил колени у раки преподобного Сергия. Ничего не просил игумен для себя: ни богатства, ни власти, ни почестей. Даже здоровья не просил, полагаясь во всем на волю Божию. Лишь благодарил Создателя и Пресвятую Богородицу за все, за все в этой жизни, да святого Сергия за те милости, которые были дарованы обители. Благодарил за сохранение и преумножение братии, за процветание и разрастание монастыря, за те чудотворения, которые происходили у раки святого и, дай Бог, еще произойдут.
Потом игумен вышел из храма и велел звонить. Отворились двери келий, и троицкие монахи потянулись к храму на утреннюю службу. Открылись монастырские ворота, и тотчас двор наполнился шумом и топотом людских ног, стонами болящих и криками бесноватых, которых насильно тащили или вели связанными в храм Божий, ибо не хотели они идти сами.
Отец Мартиниан опять обратил внимание на отрока, тащимого слугами. Юношу закутали в кафтан, рукава которого были перекрещены впереди и завязаны сзади, так что руками отрок ничего не мог делать. Его слабых сил не хватало, чтобы сопротивляться двум здоровым молодым парням, и он только жалобно стонал и упирался ногами. Но слуги легко приподнимали отрока и несли стоймя, стараясь только, чтобы тот не завалился назад. Впрочем, сзади шел боярин-отец. Он непрерывно крестился и шептал молитвы.
Отец Мартиниан второй раз за это утро обратился к преподобному Сергию:
— Милосердный отче наш, умоли Господа всемогущего оказать милость несчастному и избавить от нечистой силы, заполонившей душу его.
Литургия, похожая на каждодневные ранние монастырские службы, прошла спокойно. Разве что в храме народу было больше, чем обычно. Однако миряне вели себя тихо, даже страждущие и болящие не проявляли нетерпения и суетливости, а молились степенно, сдержанно, приуготовляя себя к вечерней службе, словно чувствуя, что если и случится что-то важное в этот день, так именно на вечере, когда будут служить преподобному Сергию.
Литургисал в это утро священник из иноков обители, посвященный в сан еще до Мартиниана. Службу он знал хорошо, но все шло как-то неровно, нервно, словно перед грозой, когда беспокойство охватывает и людей, и животных, и всю природу. Небо, правда, было серо, спокойно, однако бесноватые начали кричать разными голосами и болящие стонали громко, может быть, для того, чтобы привлечь к себе внимание преподобного, взирающего на обитель с небес.
После литургии храм опустел. Миряне, пользуясь последними теплыми днями, вышли в монастырский двор. Расположились, кто где мог; одни отдыхали, другие перекусывали взятой из дома едой, третьи шли к колодцу святого Сергия за живительной водой. Ее набирали в разные емкости, захваченные на этот случай, тут же пили, а потом располагались на поваленных деревьях и пнях в редком уже лесу вокруг монастыря.
Отец Мартиниан, занятый каждодневными игуменскими заботами, с тревогой посматривал иногда в сторону монастырских ворот: без особого предупреждения могли нагрянуть церковные иерархи — или архиепископ Ростовский, или сам святитель Иона.
Однако никакие гости в этот день в Троицкую обитель не пожаловали. Да и хорошо: никто не помешает длительной вечерней службе, никто не будет отвлекать от сугубых молитв, обращенных к преподобному Сергию в день его поминовения.
Отец Мартиниан одевался на эту службу медленно, тщательно, и в душе его звучали слова стихиры, которую будут петь певчие, повторяя не единожды:
«Того моли, Тому помолися, Преподобие, даровати мир миру и душам нашим великую милость...»
Около храма отец Мартиниан увидел отрока, на которого обратил внимание еще утром. Боярин дал знак слугам, и те подвели юношу к игумену.
— Благослови, отче,— попросил приезжий.
— Как могу благословить, когда бес в нем? — ответил Мартиниан.— Веди в церковь, молитесь преподобному Сергию...
Бояровы слуги почти волоком потащили отрока в храм. Он сопротивлялся, кричал дурным голосом и пытался вырваться. Но слуги были крепкими, да и отец помогал им.
Народу в церкви скопилось еще больше. К раке святого Сергия трудно было пробраться; скорбящие и болезные толкали друг друга, чтобы хоть как-то протиснуться ко гробу и приникнуть к нему.
Служба началась величаво и торжественно. Горело множество свечей, и в храме было светло, как в полдень. А на дворе потемнело. Тучи постепенно, неторопливо закрыли небо, и пошел мелкий дождь. Он то переставал, то начинался снова, облака то темнели, то светлели, иногда открывая чистые окна в небесное царство.
Пропели стихиру, возгласили славу.
— Приидите, монашествующих множество днесь; Сергия, благочестия подражателя, песньми и пеньем восхвалим, и честную его и многоцелебную раку об-стояще, любезно облобызаем, глаголюще: радуйся, преславне Сергие, отечеству твоему пресветлый све-тильниче... Радуйся, ибо Троице предстоиши со Ангелы; и моли непрестанно даровати душам нашим великую милость.
Служба состояла из нескольких частей. Прославление радонежского чудотворца чередовалось в ней с прославлением Господа Бога, Живоначальной Троицы и особенно Богородицы, как покровительницы и защитницы монастыря. Для этой службы Пахомий Серб написал специальный канон, посвященный Пресвятой Деве Марии. Голоса певчих, стоящих на солее, звучали не громко, но душевно. Монах-канонарх расстарался, подобрал иноков так, чтобы их проникновенное пение усиливало благолепие церковной службы, передавало трепетное преклонение перед святым игуменом.
Чтец на клиросе провозгласил Похвальное слово преподобному Сергию. Называв его святые деяния, помянули как одно из главных то, что вооружил чудотворец своим благословением князя Дмитрия Ивановича для победы над варварами, хвалящимися разорить наше отечество.
Слушая эти слова, представил себе игумен Мартиниан, как после службы и трапезы преподобный Сергий провожал Дмитрия Донского в поход против татар. Князь, откинув свой плащ, склонился перед святым, встав на колено. И вся дружина его, малая числом, сделала то же самое. Возложил Сергий свои руки на голову великого князя, перекрестил его, идущего на великую Куликовскую битву, и шепнул в самое ухо: «Победиши враги своя».
Пока читал велегласный дьякон слово, пока провозглашал премудрости библейские, виделось отцу Мартиниану, как два путника пробирались по глухой чаще радонежских лесов, где еще не было ни дорог, ни тропинок. Один из них в иноческой одежде, это брат Сергия Стефан, уже познавший горечь жизни, похоронивший жену. А другой — юноша Варфоломей, будущий Сергий. И показалось отцу Мартиниану, что похож был Варфоломей на того несчастного, что резал свою одежду у монастырских ворот и жалобно кричал, когда вели его слуги к храму. Оглянулся игумен — и словно с глазами самого Варфоломея встретился с глазами юного боярского сына. Тот сидел на корточках около раки, прислонившись затылком к ее стенке. Голова склонилась набок, как у пойманного птенца, а глаза... глаза были скорбные, недоумевающие, молящие...
В храме раздавались слова, будто повторяющие видения отца Мартиниана:
— Преподобие и Богоносне Сергие, любви ради Христовой все оставил, и в пустыню вшед, не убоялся коварства невидимых врагов, многажды приходящих на тебя и скрежетанием зубов ярость свою показующих; ты же молитвами твоими, яко дым, рассеивал их. Взываем к непорочной твоей душе и к крепкому терпению твоему! Христа непрестанно моли, спастися душам нашим...
Отец Мартиниан стоял перед иконой преподобного Сергия, что лежала на аналое посреди церкви, и смотрел в глаза святого старца, изображенного уже в преклонном возрасте, с бородой и короткими волосами, с мягким добрым лицом и всепонимающи-ми глазами.
И в третий раз за нынешний день, следя уголком глаза за отроком у раки святого, обратился Мартиниан мысленно к преподобному:
— Сергие преподобный и богоносный! Умоли Господа прославить твою обитель чудом чудесным! Изгони бесов из отрока сего, дай ему познать радость жизни, разреши молиться за тебя Богу и Спасу нашему!
Игумен пошел по кругу внутри храма и остановился у раки святого. Дьякон, прислуживающий ему, встал рядом, держа в руках Евангелие. Отец Мартиниан взял Евангелие и осторожно, чтобы не испугать юношу, положил святую книгу на голову его. Отрок застонал, словно собрался умирать, и пал на пол к ногам иеромонаха, распластавшись и широко раскинув руки в стороны. Глаза у него закрылись, щеки еще больше побледнели, и несчастный отец кинулся к сыну, думая, что тот умирает. Игумен остановил его одним словом: «Молись!» Боярин пал на колени, сложил руки и зашептал какие-то слова, из которых слышно было только: «Боже праведный... Царица Небесная... преподобный Сергие...»
Отец Мартиниан обратился ко всем: «Молитесь!» — и сам преклонил- колени у раки, касаясь лбом покровной пелены, где искусно был вышит шелками образ лежащего святого. Игумен повторял слова молитвы, которые велегласно читал дьякон:
— О, священная главо, преподобие отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, которое сам пас, и не забуди посещать чад своих. Моли за нас, отче священный, за детей своих духовных, яко имеешь дерзновение к Небесному Царю. Не презри нас, верою и любовию чтущих тебя. Поминай нас, недостойных, у престола Вседержителева и не переставай молиться о нас Христу Богу: ибо дана тебе благодать за нас молиться...
Отрок зашевелился, приподнял голову, и глаза его были ясными и светлыми, словно отразился в них огонь всех свечей храма.
Падая, он, видимо, рассек себе голову, и теперь по лицу его текла струйка крови. В церкви стало тихо, так что слышалось потрескивание свечей и легкий звон цепочек кадильницы в руках у служки.
— А я самого Сергия видел,— тихо сказал отрок, не вставая с колен.— С ним ангел был...
По храму прошел вздох. Боярин опять кинулся было к сыну, но снова отец Мартиниан остановил его.
— Молись, молись, отче, за сына своего. И он сам пусть молится.
Игумен положил руку на светлую голову и тихо спросил:
— Молиться умеешь?
— Нет,— ответил ясно отрок.
— Смотри на отца своего и делай, как он. Святой Сергий смотрит на тебя.
Игумен благословил отрока и пошел к Царским вратам. Присутствующие в церкви пали на колени, истово крестясь. Зазвучали слова, восхваляющие преподобного Сергия:
— Светоносный твой праздник, преблаженный Сергие, исполни радости и веселия духовного, благоухания и просвещения, ибо ты заступник наш и правило монашествующим. Молитвою непрестанною к Богу обращаясь, трисолнечным сиянием озарился еси... Трисолнечным светом издалеча сияя, твоим певцам свет даруй, и спасение, и миру мир... После службы игумен Мартиниан подошел к отцу отрока. Слезы непрестанно текли из глаз боярина. Он не вытирал их, а только крестился, целуя часто гробницу чудотворца Сергия и шепча:
— Преподобный Сергие, благодарю тебя невыразимо. Милость великую проявил Господь Бог по твоим молитвам... Отцу дал отраду и утешение... Чаду жизнь новую даровал... Матери — несказанную радость... По обету своему оставляю я чадо свое в обители твоей, преподобный и богоносный отче наш Сергий! Пусть поживет здесь, укрепится духом под защитой твоей, пусть послужит Господу Богу нашему, и если сподобится — станет иноком, богомольцем за все грехи наши...
Отец Мартиниан спросил еще не пришедшего в себя отрока:
— Ведаешь ли, что произошло?
— Не ведаю, отче,— тихо ответил тот.
— Чудо свершилось великое по молениям преподобного Сергия,— пояснил игумен,— Близко стоит чудотворец к Господу, слушает Тот молитвы своего святого... Вот и ты молись, чадо! Молись, сколько тело выдержит. Молись Господу Богу нашему, и Пресвятой Его Матери, и всем святым, а особенно преподобному Сергию. И не выходи пока из монастыря. Здесь тебя стены защищают. А я благословляю тебя на новый путь...
Люди не хотели уходить из церкви. Правда, Па-хомий Серб одним из первых удалился в свою келью, чтобы записать виденное в этот день. Многие иноки тоже ушли для свершения келейного правила. Но миряне толпились в храме, тихо и благоговейно обсуждая новое чудо преподобного Сергия. Страждущие и болящие не отходили от раки, горячо молясь и испрашивая великую милость для себя. Многие касались руками исцеленного юноши, будто и на них могла распространиться часть благодати, сошедшая на него.
Отец Мартиниан попросил принести переписанное житие преподобного Сергия и читать его у гроба, пока молящиеся пребывают в церкви. Чувствовал он, что всю эту ночь храм останется открытым, я будут в нем звучать слова Епифания Премудрого и Пахомия Логофета, прославляющие русского святого, чудотворца Сергия Радонежского.
«...О пастырь добрый и истинный строитель, наставник и учитель иноческого жития,
отцов слава,
преподобных иноков наставник,
монастырского общежития установитель и собеседник бесплотных,
странникам питатель,
нищим богатое сокровище,
недужным врач,
пленным освободитель,
путникам спутник,
в море плавающим кормчий,
слепым поводырь,
старости жезл,
заблуждающихся наставник,
небогатых умом учитель,
сокровенного возвеститель,
в скорбях утешитель,
царям православным миротворец,
победитель противников их и податель сил для борьбы с поганым!
Предстоя пресвятой Троице, не оставляй и нас, не забывай стадо, мудро тобою собранное, сохрани Богом дарованную тебе паству, защищая нас и сохраняя от наступающих врагов, чтобы мы, охраняемые твоими молитвами, сподобились Царствия Небесного...»
За время службы облака почти рассеялись, и на небосклоне появилось заходящее солнце. Небольшая серая туча как-то по-особому перекрыла его и оказалась обведенной горящей золотой каймой. Из-под нее выбивался яркий прямой луч. Перекрещиваясь с ровным, вытянутым над горизонтом облаком, он образовывал в небе огромный крест, такой яркий и убедительный, что люди, выходящие из храма, останавливались в изумлении и благоговейно склоняли головы, принимая этот крест в высях небесных как знамение, как покровительство небесных сил живущим на Земле, как знак благоволения Господа ко всем молящимся в святой обители.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
ДМИТРИЙ ШЕМЯКА, КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ
(Из исторических документов и летописей)
«ОКРУЖНАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА ИОНЫ ОБ ИЗМЕНЕ И НАВЕТАХ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА, С УБЕЖДЕНИЕМ, ЧТОБЫ САНОВНИКИ И НАРОД ОТЛОЖИЛИСЬ ОТ НЕГО И ПОКОРИЛИСЬ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, ПОД ОПАСЕНИЕМ ЦЕРКОВНОГО ОТЛУЧЕНИЯ.
Благословение Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, о святом Духе возлюбленным сынам нашего смирения, благородным и благоверным князьям, и панам, и боярам, и наместникам, и воеводам, и всему купно христоименитому Господню людству.
Ведомо вам, сынове, что сколько лет церковь Божия вдовствовала без большаго Святителя, без Митрополита, и в том много лиха и истомы христианству нашей земли причинилось. И ныне, Богу так угодно, собрался священный Собор, владыки, и архимандриты, и игумены, со всем великим Божиим священством нашей земли, и по божественным священным правилам поставили меня митрополитом, поминая прежнее на нас повеление святого Царя, и благословение святого Вселенского патриарха и всего святого Вселенского Собора, и по думе господина сына моего, великого князя Василия Васильевича и его младшей братии князей. Раньше, сынове, было в Цареграде православие, и они оттуда принимали благословение и Митрополита, а теперь, сынове, Богу так угодно, не хотением нашего смирения, но волею великого самодержавства это учинилось... и того ради тое великое Божие дело сталося. И ныне, сынове, зная и ведая, что есть истинные и великие православные христиане и великую веру имеете к Богу, послал я к вам со своим благословением своего боярина; и пишем к вашему великому православию о Святом Духе, чада мои, исполняя свое должное святительское попечение не только о едином нынешнем вашем благопребывании, но более того о благом воздании от Христа, моего Владыки, вашим единородным, бессмертным душам в день великий неумолимого суда.
Ведаете, сынове, что и как стало на Руси от князя Дмитрия Шемяки, сколько лиха и запустения земли нашей учинилось и крови христианской пролилось множество. Потом князь Дмитрий, осознав все, к своему брату старейшему, великому князю, бил челом и честный и животворящий крест целовал, и неоднократно, да и то все изменял. Наконец, снова добил челом своему брату старейшему, великому князю, и животворящий крест целовал, да и грамоту на себя сам написал, своею волею, такову: что ему о великом княжении никакого лиха не замышлять, не выступать на брата своего старейшего, на великого князя, и не думать о христианском нестроении и крови. А если будет что думать или начнет какое лихо против своего брата старейшего великого князя, или христианства русского, не будет на нем милости Божией, ни Пречистой его Богоматери, ни великого чудотворца Николы, ни святых чудотворцев Петра и Леонтия, ни преподобных отцов Сергия и Кирилла, ни благословения всех владык, и архимандритов, и игуменов, и священноиноков, и иноков, и всего великого Божьего священства ни в сей век, ни в будущий.
И ради этого пишу вам, чтобы пощадили себя все православные христиане не только телесно, но более того — душевно, и посылали бы и били челом своему Господарю великому князю о жаловании, как ему Бог положит на сердце. А не будете бить челом своему Господарю великому князю, то кровь христианская прольется, и вся та кровь на вас от Бога взыщется, за окаменение ваше и неразумие, и не будет на вас нашего смиренного благословения и молитвы, да и всего великого священства Благословения Божия.
И молюсь вам, о Господе возлюбленные чада мои, чтобы вы не ввели себя в такую великую церковную тягость, и более того — не предали бы свои единородные, бессмертные души великой муке. Если вашим ожесточением кровь христианская еще прольется, тогда никто не будет именоваться христианами в вашей земле, и священники не будут священствовать, а все Божий церкви в вашей земле затворятся от нашего смирения по нашему слову. И ради того, сынове, с великомощным к Богу предсто-янием и рыданием молю вас, чтобы вы все о том общее смирение и рассуждение поимели, и чтобы было это во славу Божию, а не в погибель Христианскую».
«ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ИОНЫ НОВГОРОДСКОМУ АРХИЕПИСКОПУ ЕВФИМИЮ О ТОМ, ЧТОБЫ ОН УБЕДИЛ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ШЕМЯКУ ПОКОРИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, С УВЕРЕНИЕМ, ЧТО ОН, СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, ГОТОВ ДАРОВАТЬ ЕМУ ПРОЩЕНИЕ, И ЧТО, В ОЖИДАНИИ ПОСЛОВ ИЗ НОВГОРОДА, ПОБЕЛЕНО УЖЕ ОТ НЕГО ПЛЕННИКОВ НОВГОРОДСКИХ ОТПУСТИТЬ БЕЗ ОТКУПА.
Благословение Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, о Святом Духе возлюбленному сыну и сослужебнику нашего смирения, архиепископу Великого Новагорода и Пскова владыке Евфимию.
Ведомо тебе, брат и сын, каково нестроение в православном христианстве и многое кровопролитие учинилось, от кого и как, и до сего времени та кровь христианская непрестанно льется. Сколько посланий наших о том было от нашего смирения к тебе, нашему сыну и брату, чтобы ты, по своему святительскому долгу, о том попечение имел, чтобы ты об отчине сына моего, великого князя Василия Васильевича, своим детям. Великому Новугороду, говорил и духовно им напоминал, чтобы себя в том поберегли, ради душевного своего спасения и в будущий приходящий страшный день судный грозного ответа, и ради нынешнего временного устроения и тишины. И сколько о том к тебе, к нашему сыну и брату, послов своих посылал, с нашими речами и грамотами, и к своим детям к Великому Новугороду, то все тебе ведомо.
И для того к тебе ныне вкратце пишем, и только о том тебе еще напоминаем, что этой зимой прислали своих послов и от Новагорода, и от Пскова также, к нашему господину и сыну моему великому князю Василию Васильевичу; и ко мне, к его богомольцу и отцу, били челом о том, чтобы мне, богомольцу, челом бити ему и просить его, да и Бога молить о нем, того ради, чтобы Бог положил ему на сердце, нашего ради прошения и ради вашего челобитья, свою отчину Великий Новгород жаловать, нелюбья бы своего на них не держать, а по вашему многому челобитью к преступившему человеку князю Дмитрию смилостивиться по его покаянию, а вас для него пожаловать. Да и опасных грамот ваши послы у господина сына моего великого князя, и у меня, у его богомольца, просили.
И по нашему прошению и мольбе, и благословению, и челобитью, сын мой великий князь, как ему Бог пожаловал на сердце, нас в том послушал, опасные свои грамоты вашим послам подавал; а также и я свою опасную грамоту им дал тоже. И должен был по тем грамотам князь Дмитрий прислать своего посла, с чистым покаянием бить челом своему господину и своему брату старейшему великому князю Василию Васильевичу, от чистого сердца, истинно, без лукавства, и жалования у него просить такого, как было бы Богу любо, и было бы христианское устроение и тишина...
И ныне... Великий Новгород и Псков прислали своих послов, но прислали ни с чем; а князь Дмитрии прислал своего боярина Ивана Новосильцева, да прислал тоже ни с чем... Да еще и грамоты посылает тайно, но с великим высокомерием: о своем преступлении и о своей вине ни единого слова пригодного не сказал.
Но мы свое должное дело делаем. А господин и сын мой князь великий, как ему Бог положил на сердце... свою отчину Великий Новгород пожаловал, полон их к ним велел отпустить, и без выкупа.
Надеюсь на Бога и на Пречистую Его Богоматерь, только бы князь Дмитрий пришел к Богу с чистым покаянием, а своему Господину и брату старейшему, а нашему сыну великому князю бил бы челом, с покаянием, от чистого сердца; надеялся бы на Бога, чтобы князь великий свое сердце облегчил, грубость бы его к себе отложил, и пожаловал бы его. И о том тебе, своему сыну и брату, пишу и вспоминаю: ради своей душевной пользы и своего ради спасения побереги и ты свое святительство, чтобы кровь христианская от сих времен перестала литься... Ибо то зло и та кровь христианская не будет ни на нашем сыне великом князе, ни на нас, но на том будет та кровь христианская, кто той крови... восхочет и будет о том думать...
И ныне, сынове, посылайте своих послов, людей больших, и благословлю вас, своих детей, а послов посылайте, сынове, с делом, чтоб милостию Божиею всему православному христианству лучше было. Путь для ваших послов чист, ибо дал великий князь и я им грамоты опасные. А благость Божия о всем и милость, и нашего смирения благословение и молитва всегда с твоим святительством и со всею же от Бога врученною тебе Христовою паствою».
Под Новгородом, на реке Веряжи, стоял в то время Троицкий Клопский монастырь, и жил в нем юродивый Михаил, которого по имени обители тоже называли Клопским. Чтили его иноки и церковнослужители, любил простой народ, почитали князья и ездили к нему за благословением. Сам же он был не простых кровей. Младший сын Дмитрия Донского Константин признал в нем княжеского свойственника и просил игумена бережно относиться к монаху, имени которого долго не знали в обители.
Юродивых на Руси любили. Ведь чаще всего юродство было подвигом во имя Христа, который добровольно брал на себя человек.
К речам блаженных прислушивались, просили их предстательства перед Богом, и они могли говорить то, что не прощалось другим людям.
Михаил Клопский был таким любимым и почитаемым юродивым. Владыка Новгородский, князья и весь остальной люд ласково называли его Михайлушкой. Не боясь ни княжеской власти, ни боярского гнева, говорил блаженный Михаил сильным мира сего, что думает о них и что их ждет, и часто его предсказания сбывались.
...Приехал в ту пору в Новгород князь Дмитрий Юрьевич Шемяка и пришел в Клопский монастырь благословиться у Михаилы. И говорит он: «Михайлушка, скитаюсь вдали от своей вотчины — согнали меня с великого княжения!» А Михаила в ответ: «Всякая власть дается от Бога!» Князь попросил: «Михайлушка, моли Бога, чтобы мне добиться своей вотчины — великого княжения». Михайло говорит ему: «Князь, добьешься трилокотного гроба!» Князь же, не вняв этому, поехал добиваться великого княжения. И Михаила сказал: «Всуе стараешься, князь,— не получишь, чего Бог не даст». И не было Божьей помощи князю.
В то время спросили у Михаилы: «Пособил Бог князю Дмитрию?» А Михаила сказал: «Впустую проплутали наши». Записали день, в который это было сказано. Так оно и оказалось.
Опять прибегал князь в Великий Новгород. И опять приехал он в Клопский монастырь братию кормить и у Михаилы благословиться. Накормил и напоил старцев, а Михаиле дал шубу, с себя сняв. Когда стали князя провожать из монастыря, то Ми-хайла погладил князя по голове до промолвил: «Князь, земля по тебе стонет!» И трижды повторил это. Так и случилось...
Прибыл в Новгород от великого князя знаменитый дьяк Степан Бородатый. Вошел он в какие-то отношения с шемякинским боярином Иваном Ко-товым. В канун Ильина дня, 19 июля 1453 г., повар подал Шемяке на обед курицу, и князь, отведав ее, скоропостижно скончался.
23 июля подьячий Василий Беда спешно прискакал из Новогорода в Москву и сообщил великому князю о смерти его давнего врага. В это время Василий Васильевич слушал вечерню в храме Бориса и Глеба у Арбатских ворот.
А за доброе известие наградил он быстрого гонца: отныне Василий Беда стал именоваться дьяком.
(Из исторических документов и летописей)
«ОКРУЖНАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА ИОНЫ ОБ ИЗМЕНЕ И НАВЕТАХ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА, С УБЕЖДЕНИЕМ, ЧТОБЫ САНОВНИКИ И НАРОД ОТЛОЖИЛИСЬ ОТ НЕГО И ПОКОРИЛИСЬ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, ПОД ОПАСЕНИЕМ ЦЕРКОВНОГО ОТЛУЧЕНИЯ.
Благословение Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, о святом Духе возлюбленным сынам нашего смирения, благородным и благоверным князьям, и панам, и боярам, и наместникам, и воеводам, и всему купно христоименитому Господню людству.
Ведомо вам, сынове, что сколько лет церковь Божия вдовствовала без большаго Святителя, без Митрополита, и в том много лиха и истомы христианству нашей земли причинилось. И ныне, Богу так угодно, собрался священный Собор, владыки, и архимандриты, и игумены, со всем великим Божиим священством нашей земли, и по божественным священным правилам поставили меня митрополитом, поминая прежнее на нас повеление святого Царя, и благословение святого Вселенского патриарха и всего святого Вселенского Собора, и по думе господина сына моего, великого князя Василия Васильевича и его младшей братии князей. Раньше, сынове, было в Цареграде православие, и они оттуда принимали благословение и Митрополита, а теперь, сынове, Богу так угодно, не хотением нашего смирения, но волею великого самодержавства это учинилось... и того ради тое великое Божие дело сталося. И ныне, сынове, зная и ведая, что есть истинные и великие православные христиане и великую веру имеете к Богу, послал я к вам со своим благословением своего боярина; и пишем к вашему великому православию о Святом Духе, чада мои, исполняя свое должное святительское попечение не только о едином нынешнем вашем благопребывании, но более того о благом воздании от Христа, моего Владыки, вашим единородным, бессмертным душам в день великий неумолимого суда.
Ведаете, сынове, что и как стало на Руси от князя Дмитрия Шемяки, сколько лиха и запустения земли нашей учинилось и крови христианской пролилось множество. Потом князь Дмитрий, осознав все, к своему брату старейшему, великому князю, бил челом и честный и животворящий крест целовал, и неоднократно, да и то все изменял. Наконец, снова добил челом своему брату старейшему, великому князю, и животворящий крест целовал, да и грамоту на себя сам написал, своею волею, такову: что ему о великом княжении никакого лиха не замышлять, не выступать на брата своего старейшего, на великого князя, и не думать о христианском нестроении и крови. А если будет что думать или начнет какое лихо против своего брата старейшего великого князя, или христианства русского, не будет на нем милости Божией, ни Пречистой его Богоматери, ни великого чудотворца Николы, ни святых чудотворцев Петра и Леонтия, ни преподобных отцов Сергия и Кирилла, ни благословения всех владык, и архимандритов, и игуменов, и священноиноков, и иноков, и всего великого Божьего священства ни в сей век, ни в будущий.
И ради этого пишу вам, чтобы пощадили себя все православные христиане не только телесно, но более того — душевно, и посылали бы и били челом своему Господарю великому князю о жаловании, как ему Бог положит на сердце. А не будете бить челом своему Господарю великому князю, то кровь христианская прольется, и вся та кровь на вас от Бога взыщется, за окаменение ваше и неразумие, и не будет на вас нашего смиренного благословения и молитвы, да и всего великого священства Благословения Божия.
И молюсь вам, о Господе возлюбленные чада мои, чтобы вы не ввели себя в такую великую церковную тягость, и более того — не предали бы свои единородные, бессмертные души великой муке. Если вашим ожесточением кровь христианская еще прольется, тогда никто не будет именоваться христианами в вашей земле, и священники не будут священствовать, а все Божий церкви в вашей земле затворятся от нашего смирения по нашему слову. И ради того, сынове, с великомощным к Богу предсто-янием и рыданием молю вас, чтобы вы все о том общее смирение и рассуждение поимели, и чтобы было это во славу Божию, а не в погибель Христианскую».
«ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ИОНЫ НОВГОРОДСКОМУ АРХИЕПИСКОПУ ЕВФИМИЮ О ТОМ, ЧТОБЫ ОН УБЕДИЛ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ШЕМЯКУ ПОКОРИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, С УВЕРЕНИЕМ, ЧТО ОН, СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, ГОТОВ ДАРОВАТЬ ЕМУ ПРОЩЕНИЕ, И ЧТО, В ОЖИДАНИИ ПОСЛОВ ИЗ НОВГОРОДА, ПОБЕЛЕНО УЖЕ ОТ НЕГО ПЛЕННИКОВ НОВГОРОДСКИХ ОТПУСТИТЬ БЕЗ ОТКУПА.
Благословение Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, о Святом Духе возлюбленному сыну и сослужебнику нашего смирения, архиепископу Великого Новагорода и Пскова владыке Евфимию.
Ведомо тебе, брат и сын, каково нестроение в православном христианстве и многое кровопролитие учинилось, от кого и как, и до сего времени та кровь христианская непрестанно льется. Сколько посланий наших о том было от нашего смирения к тебе, нашему сыну и брату, чтобы ты, по своему святительскому долгу, о том попечение имел, чтобы ты об отчине сына моего, великого князя Василия Васильевича, своим детям. Великому Новугороду, говорил и духовно им напоминал, чтобы себя в том поберегли, ради душевного своего спасения и в будущий приходящий страшный день судный грозного ответа, и ради нынешнего временного устроения и тишины. И сколько о том к тебе, к нашему сыну и брату, послов своих посылал, с нашими речами и грамотами, и к своим детям к Великому Новугороду, то все тебе ведомо.
И для того к тебе ныне вкратце пишем, и только о том тебе еще напоминаем, что этой зимой прислали своих послов и от Новагорода, и от Пскова также, к нашему господину и сыну моему великому князю Василию Васильевичу; и ко мне, к его богомольцу и отцу, били челом о том, чтобы мне, богомольцу, челом бити ему и просить его, да и Бога молить о нем, того ради, чтобы Бог положил ему на сердце, нашего ради прошения и ради вашего челобитья, свою отчину Великий Новгород жаловать, нелюбья бы своего на них не держать, а по вашему многому челобитью к преступившему человеку князю Дмитрию смилостивиться по его покаянию, а вас для него пожаловать. Да и опасных грамот ваши послы у господина сына моего великого князя, и у меня, у его богомольца, просили.
И по нашему прошению и мольбе, и благословению, и челобитью, сын мой великий князь, как ему Бог пожаловал на сердце, нас в том послушал, опасные свои грамоты вашим послам подавал; а также и я свою опасную грамоту им дал тоже. И должен был по тем грамотам князь Дмитрий прислать своего посла, с чистым покаянием бить челом своему господину и своему брату старейшему великому князю Василию Васильевичу, от чистого сердца, истинно, без лукавства, и жалования у него просить такого, как было бы Богу любо, и было бы христианское устроение и тишина...
И ныне... Великий Новгород и Псков прислали своих послов, но прислали ни с чем; а князь Дмитрии прислал своего боярина Ивана Новосильцева, да прислал тоже ни с чем... Да еще и грамоты посылает тайно, но с великим высокомерием: о своем преступлении и о своей вине ни единого слова пригодного не сказал.
Но мы свое должное дело делаем. А господин и сын мой князь великий, как ему Бог положил на сердце... свою отчину Великий Новгород пожаловал, полон их к ним велел отпустить, и без выкупа.
Надеюсь на Бога и на Пречистую Его Богоматерь, только бы князь Дмитрий пришел к Богу с чистым покаянием, а своему Господину и брату старейшему, а нашему сыну великому князю бил бы челом, с покаянием, от чистого сердца; надеялся бы на Бога, чтобы князь великий свое сердце облегчил, грубость бы его к себе отложил, и пожаловал бы его. И о том тебе, своему сыну и брату, пишу и вспоминаю: ради своей душевной пользы и своего ради спасения побереги и ты свое святительство, чтобы кровь христианская от сих времен перестала литься... Ибо то зло и та кровь христианская не будет ни на нашем сыне великом князе, ни на нас, но на том будет та кровь христианская, кто той крови... восхочет и будет о том думать...
И ныне, сынове, посылайте своих послов, людей больших, и благословлю вас, своих детей, а послов посылайте, сынове, с делом, чтоб милостию Божиею всему православному христианству лучше было. Путь для ваших послов чист, ибо дал великий князь и я им грамоты опасные. А благость Божия о всем и милость, и нашего смирения благословение и молитва всегда с твоим святительством и со всею же от Бога врученною тебе Христовою паствою».
Под Новгородом, на реке Веряжи, стоял в то время Троицкий Клопский монастырь, и жил в нем юродивый Михаил, которого по имени обители тоже называли Клопским. Чтили его иноки и церковнослужители, любил простой народ, почитали князья и ездили к нему за благословением. Сам же он был не простых кровей. Младший сын Дмитрия Донского Константин признал в нем княжеского свойственника и просил игумена бережно относиться к монаху, имени которого долго не знали в обители.
Юродивых на Руси любили. Ведь чаще всего юродство было подвигом во имя Христа, который добровольно брал на себя человек.
К речам блаженных прислушивались, просили их предстательства перед Богом, и они могли говорить то, что не прощалось другим людям.
Михаил Клопский был таким любимым и почитаемым юродивым. Владыка Новгородский, князья и весь остальной люд ласково называли его Михайлушкой. Не боясь ни княжеской власти, ни боярского гнева, говорил блаженный Михаил сильным мира сего, что думает о них и что их ждет, и часто его предсказания сбывались.
...Приехал в ту пору в Новгород князь Дмитрий Юрьевич Шемяка и пришел в Клопский монастырь благословиться у Михаилы. И говорит он: «Михайлушка, скитаюсь вдали от своей вотчины — согнали меня с великого княжения!» А Михаила в ответ: «Всякая власть дается от Бога!» Князь попросил: «Михайлушка, моли Бога, чтобы мне добиться своей вотчины — великого княжения». Михайло говорит ему: «Князь, добьешься трилокотного гроба!» Князь же, не вняв этому, поехал добиваться великого княжения. И Михаила сказал: «Всуе стараешься, князь,— не получишь, чего Бог не даст». И не было Божьей помощи князю.
В то время спросили у Михаилы: «Пособил Бог князю Дмитрию?» А Михаила сказал: «Впустую проплутали наши». Записали день, в который это было сказано. Так оно и оказалось.
Опять прибегал князь в Великий Новгород. И опять приехал он в Клопский монастырь братию кормить и у Михаилы благословиться. Накормил и напоил старцев, а Михаиле дал шубу, с себя сняв. Когда стали князя провожать из монастыря, то Ми-хайла погладил князя по голове до промолвил: «Князь, земля по тебе стонет!» И трижды повторил это. Так и случилось...
Прибыл в Новгород от великого князя знаменитый дьяк Степан Бородатый. Вошел он в какие-то отношения с шемякинским боярином Иваном Ко-товым. В канун Ильина дня, 19 июля 1453 г., повар подал Шемяке на обед курицу, и князь, отведав ее, скоропостижно скончался.
23 июля подьячий Василий Беда спешно прискакал из Новогорода в Москву и сообщил великому князю о смерти его давнего врага. В это время Василий Васильевич слушал вечерню в храме Бориса и Глеба у Арбатских ворот.
А за доброе известие наградил он быстрого гонца: отныне Василий Беда стал именоваться дьяком.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
«НЕ БУДЕТ ТЕБЕ МОЕГО БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ...»
Дня в Троицкой обители были какими-то суматошными и дергаными. Велик монастырь, и хозяйство у него немалое, и братии много, и богомольцев. Обо всех надо заботиться, всех накормить-напоить, разместить и согреть, а болящих — лечить. Вот и получалось, что хозяйственные заботы отнимали так много времени, что становилось горько. И хотя келарь Иларион многое вершил сам, все-таки без совета с игуменом и половины дел не делалось. А ведь они не были главными. Заботы о душах поселившихся в монастыре не давали покоя собственной душе. Отец Мартиниан пристально наблюдал за своими иноками и со скорбью душевной видел, что жили в них зависть и злоба, сребролюбие и сладострастие, ненависть и лень.
Тяжка была ноша грехов духовных детей игумена, и преклонял настоятель колени, и молился за чад своих, и за себя, многогрешного, ибо не хватало у него подчас сил и умения вести обитель так, как вел ее святой Сергий.
Стихами священной книги христиан Библии, высокими и мудрыми словами апостолов и евангелистов обращался он к Господу и Его Пресвятой Матери, возносил хвалу всечестным отцам, просветившимся светом небесным и потому почитаемым всеми христианскими народами. Читал отец Мартиниан светлые и торжественные молитвы, сложенные греческими святыми Иоанном Дамаскиным и Андреем Критским... Любил псалмы библейского царя и пророка Давида, особенно пятидесятый, покаянный, и часто обращался к Господу стихами, сложенными за десять веков до Рождества Христова:
— Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мои всегда предо мною...
В чистых порывах души, доведенной постами и молитвами до особого, внетелесного существования, взывал стареющий игумен ко Вседержителю:
— Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего снятого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня... Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою...
Каждый день в своих молитвах взывал игумен к чудотворцу Сергию. В благодарственной молитве преподобному, которого троицкий игумен постоянно призывал в помощь себе и своему иноческому и наставническому служению, повторял отец Мартиниан похвальные слова, которые сложил еще инок обители Епифаний Премудрый:
— О святой Божий Спасов угодник! О преподобный избранник Христа! О священная глава, пребла-женный авва великий Сергий! Не забудь нас, твоих нищих, до конца, но поминай нас в твоих благоугод-ных молитвах ко Господу! Помяни стадо свое, которое ты пас, и не забывай посещать своих чад. Имея дерзновение к небесному Царю, молись за нас, твоих духовных детей, о святой отец; не умолкай, вопия за нас ко Господу, не презри нас, верой и любовью почитающих тебя. Помяни нас, недостойных, у Престола Вседержителя и не переставай молиться о нас Христу Богу, ибо тебе дана эта благодать. Мы не думаем, что ты умер; хотя телом ты преставился от нас, не покидай нас духом, о наш добрый пастырь. Гроб с твоими- мощами стоит перед нами, и твоя святая душа невидимо, с ангельскими воинствами, с бесплотными ликами, с Небесными Силами благолепно и достойно веселится у Престола Вседержителя. Мы знаем, что ты жив и после смерти, потому что пророк сказал: «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их... Надежда их полна бессмертия... потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его...»
Заканчивал Мартиниан свою долгую и умилительную молитву к Сергию Чудотворцу словами о том, что преподобный воспринял Царство Небесное от Господа, просил Всевышнего, чтобы все иноки, все верующие были наследниками вечного блаженства по благодати Господа нашего Иисуса Христа, и славил Святую Троицу, воздавая честь и поклонение Богу-Отцу, Богу-Сыну и Богу—Духу Святому.
Еще одна большая забота постоянно мучила отца Мартиниана: стольный град Москва был совсем близко, и великий князь часто беспокоил обитель, одолевая своими государственными делами, не давая возможности в тишине и спокойствии заботиться о спасении души.
Вот и третьего дня прискакал от него посол. Сообщал Василий Васильевич, что скоро будет в обители и что имеет он великую нужду в разговоре со святым игуменом.
Лето в этом году было мокрым, многодождливым. Шумели беспокойные ручьи, оставляя после себя разрушенные мосты да размытые дороги; вода в реках поднималась, сносила ненадежные переправы, затопляла низины, делала непроходимыми овраги.
К приезду великого князя пришлось снаряжать гонцов по селам и следить за тем, чтобы быстро сделали гати, починили малые переправы да разровняли глубокие колеи, иначе — не дай Бог! — сломает какой-нибудь конь ногу или упадет вместе с седоком. Правда, великий князь особенно не торопился, ездил спокойно, с остановками, и разбитой дороги не видел из-за своей слепоты, да бояре имели глаз острый и шептали на ухо, радуясь государеву гневу, направленному на других.
Отец Мартиниан был у великого князя в почете. Как поверил опальный Василий игумену тогда, в Ферапонтове, так и верил до сих пор, приезжал в Сергиеву обитель для совета, а то и вызывал Мартиниана к себе в Москву.
Сейчас, видно, нужда была велика, если собрался великий князь по расхлябанным дорогам в монастырь за семьдесят верст. Знать, мало было кремлевских иереев да Ионы-митрополита, если ехал в Троицкую обитель, на поклон к преподобному Сергию.
Отец Мартиниан ждал Василия Васильевича. Монастырский двор, как водится, очистили особенно тщательно, приготовили на поварне положенную по дню еду, а покои отмыли добела. Готовили и подарки, но до поры до времени игумен велел держать все в секрете: вдруг не успеется, а слух уже поползет.
О приближении великого князя сообщили к обедне. Игумен велел задержать службу в Троицком храме и сам с иноками вышел встречать правителя за ворота. Вообще-то за монастырскую ограду старались без особой нужды не выходить, ибо чтили завет преподобного Сергия, который велел инокам как можно реже покидать обитель, но приезд князя — особый случай.
Небольшой отряд всадников с развевающимся княжеским штандартом от села Клементовского чинно спустился в долину, а затем поднялся в гору к монастырским воротам. Великий князь спешился, подошел под благословение игумена и чинно двинулся за монахами к собору. Его дружина, тоже пешая, вошла в обитель, отдав коней конюшенным отрокам. Отец Мартиниан отметил, как поздоровел и порозовел лицом великий князь, как нарядно вышита повязка на его глазах. Особенно понравилось, что держался Василий гордо, по-государевому, плеча боярина чуть касался, не боясь ступать вперед, словно знал или чувствовал дорогу. Эти уверенность и спокойствие так отличали нынешнего князя от того слепца, которого увидел Мартиниан в первый раз, что поневоле пришла на ум мысль: чтобы стать истинным государем, надо было пройти все страдания и лишиться зрения.
Зазвонили колокола, возвещая начало службы. Великий князь, иноки и гости прошли сразу в Троицкий храм и здесь отстояли литургию по полному чину, как положено.
Потом всех позвали в трапезную. Порядки в монастыре, как и при Сергии, были строги: ели и пили сообща в уставное время, достойно и благочинно. Всем доставалось поровну, так что обид не было. Пищу вкушали с глубоким смирением, в молчании, ибо, как не уставал повторять Мартиниан, это всегда должна быть трапеза царская, святая, а лучше сказать — Христова, для всех равная и изобильная, ни у кого зависти не вызывающая. Она должна содействовать благоуханию аромата заповедей Господних, потому во время трапезы иноки читали Святое Писание или жития святых, приличествующие случаю.
Сегодня читали Псалом 145. Была в нем незримая связь со слепцом — великим князем, которому Господь отверз очи, внушил благие помыслы и утвердил на великом столе, вознаградив за страдания твердостию духа и государственным разумом. Вместе с тем были там и строки, возвышающие власть духовную, власть Господа и его служителей над мирской властью.
— Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надеетесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, а он возвращается в землю свою; в тот день исчезают помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаков-лев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым,. Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во веки... Аллилуйя.
Слушая этот псалом, великий князь перестал вкушать пищу, а когда кончилась трапеза, похвалил чтеца и тут же от щедрот своих преподнес монастырю мешочек с деньгами да жалованную грамоту на Кинельские села. Дьяк великого князя громогласно прочитал ее:
«По приказу своей госпожи, своей матери, великой княгини Софии, я, князь великий Василий Васильевич, дал в дом Живоначальной Троицы в Сергиев монастырь села ее Кинельские, Чечевкино да Слотино, с деревнями... кроме тех земель волостных, которые подавал я, князь великий, своей матери великой княгине к тем ее селам и к деревням...; а дал им те села и деревни и с хлебом, и с животиною, и со всем тем, что в тех селах и деревнях есть, опричь людей страдных, да опричь суда; суд мой, великого князя. А дал я Живоначальной Троице неподвижно в дом те села и деревни по своем отце, великом князе Василии Дмитровиче, и по своей матери, великой княгине Софье, и всему своему роду на поминок».
Дьяк передал игумену небольшое матерчатое полотно, в конце которого, на отгибе края, была приложена желтовосковая княжеская печать. Тот, внимательно осмотрев печать и прочитав еще раз текст, протянул свиток келарю Илариону, чтобы отнести его в ризницу, где хранились подобные и многие другие грамоты.
Мать Василия Васильевича великая княгиня Софья Витовтовна преставилась недавно, полтора месяца назад. Троицкий игумен не поехал в Москву на похороны, остался в обители и сам служил по княгине, как только узнали о ее кончине. В стольном же граде собрались епископы и архиереи. Провожали великую княгиню со многими почестями, а гроб положили в Вознесенском монастыре, в Кремле, там, где лежала ее свекровь, великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского. Нареченная в монашеском чине Евфросиньей, Евдокия была похоронена в основанной ею же обители, где видел отец Мартиниан недостроенный каменный собор, который начал возводиться самой княгиней.
Тогда великий князь не приехал к Живоначальной Троице, лишь прислал гонца с печальным известием да с милостыней великою, чтобы служили по матери с усердием и нередко. Впрочем, отец Мартиниан дело свое знал, и Софью, дочь великого литовского правителя Витовта, поминали по чину ежедневно до сороковин. А они только прошли. То, что великий князь сразу поехал в Сергиев монастырь, лишний раз говорило о большой нужде правителя в Троицком игумене.
Василий Васильевич отдыхать не захотел. Он прошел в настоятельские покои и здесь, расположившись в келье игумена, отослал своих бояр за порог. Отец Мартиниан и великий князь остались одни.
— Давно не бывал я у великой Троицы, давно не дышал здешним святым воздухом, давно не услаждал слух добромудрой беседой с тобой, святый отче,— начал Василий Васильевич.
— И я давно не видал великого князя в нашей скромной обители, давно не слушал его смиренных речей, давно не благословлял государя нашего на его многотрудные дела,— отозвался игумен.
— Благослови, отче, бедного слепца,— со смирением попросил князь, но игумен сразу уловил в его словах неискренность.
— Не бедным слепцом пришел ты сюда, господине, и не подобает тебе им быть. «Господь умудряет слепцов и открывает им очи»,— сказал великий псалмопевец Давид. И я вижу перед собой истинного государя, мудро управляющего страной и дающего достойный отпор врагам своим.
Мартиниан благословил ставшего на колено князя, и тот поцеловал руку игумена. Теперь можно было приступать к делу.
— Имею нужду в тебе, отче,— сказал Василий.
— Говори,— коротко ответил Мартиниан.
— Нету покоя в землях наших,— скорбно начал великий князь.— Только отбежал подальше от стольного града братанич наш князь Дмитрий Ше-мяка, только вздохнул я чуть свободнее, ан нет — начал он Новгород Великий мутить, бояр на меня подговаривать... Вот уж почти семь лет, как сижу я твердо на великом княжении, как выехал князь Га-лицкий из Москвы, а все эти годы не давал мне брат Дмитрий покоя. Никак не мог утихомириться, никак не мог забыть о своих притязаниях. Бегал по Руси, как загнанный волк, земли и селения наши разорял, в Великий Новгород подался, под крышу вольного града, под защиту Новгородского вече. Да только и там достала его судьбина. Отравили его в Новегороде. Посол пригонил ко мне днесь с этой вестью. Вроде курицу ему подали отравленную...
Отец Мартиниан посуровел. Жестокая борьба между князьями шла на его глазах, оковывали друг друга оковами, ослепляли, но на жизнь не покушались. Пример Святополка, убившего братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба и получившего за то прозвание Окаянного, и проклятие ему в веках служили предостережением.
— А кто за тем поваром стоял? — спросил отец Мартиниан.
— Кто его знает,— невнятно ответил великий князь,— Да и что тебе за дело до этого, святой отец? Ты вместе с нами Богу молиться должен, что освободились мы от разорителя земель наших и клятвопреступника. На пользу нам это.
Великий князь вроде как рассердился и сцепил руки на коленях так, что пальцы побелели.
— На пользу-то на пользу,— тихо сказал игумен,— да только надо помнить завет Господа нашего Иисуса Христа: всякую тварь живую жизни лишить может только сам Бог.
— Вот и считай, что Господь лишил злодея его зловредной жизни.
— Не могу так считать, ибо сам же ты сказал, что не своей смертью умер князь Галицкий.
Василий Васильевич помолчал, все так же сжимав пальцы с белыми ногтями, и чувствовалось, что хочет он что-то поведать игумену, да сомневается. Потом, видно, решив держать свое при себе, сказал с раздражением, даже грубо:
— Ну, так и молись за тех, кто взял на себя сей грех великий... Да меня, недостойного, не забудь в своих молитвах.
Князь помолчал и затем, следуя каким-то своим тайным мыслям, добавил:
— Так ведь слухи все это про курицу... Кто знает, от чего умер брат Дмитрий? Может, наказал его Господь ранней смертью за все грехи его... Так что молись, отче, и за меня, многогрешного, и за него такого же...
— Я за всех людей ежедневно молюсь,— ответил отец Мартиниан,— а за тебя, княже, особенно. Ибо взял я на себя, как и кирилловский игумен Трифон, великий грех твой — клятвопреступление и нарушение крестного целования. Взял ради того, чтобы увидеть тебя на великом столе, ибо нельзя было великому князю оставаться в той глуши, куда тебя Шемяка послал. И хотя прошло довольно лет с тех пор, Господь не покарал меня за то деяние. Значит, свершилось все по Его святой воле.
— Вот и сейчас возьми грехи мои на себя,— твердо сказал Василий Васильевич.— Ибо не было у меня другого пути, не мог я ждать мира и покоя для всей земли, пока князь Дмитрий бегал от города к городу, разорял и сжигал посады, да людей губил... Он и Новгород мог за собой увлечь, но волей Бо-жией не свершилось этого злодеяния. А то ведь сколько бы людей погибло да сколько сел и деревень было бы порушено...
— Значит, здесь, в Москве, все было задумано,— понял отец Мартиниан,— от великого князя шли приказы. А там, в Новгороде, только исполняли их.
Он долго молчал в раздумьи, ибо велик был грех сей. Но и дела князя Дмитрия Шемяки были кровавы. Когда на Страшном Суде ангел будет взвешивать на небесных весах грехи каждого, чьи окажутся тяжелее? Шемяка-то тысячекратно нарушал заповедь Господню «не убий», только под Устюгом, рассказывают, сей бесчеловечный князь привязывал камни на шею тем, кто отказывался служить ему, и топил в Сухоне.
Вслух же отец Мартиниан сказал:
— Богу ведомы все грехи людские. Ему лишь одному дано прощать и наказывать. А я, грешный, буду молиться за всех вас и за тебя, княже, наособицу. Знаю, нет в тебе злобы душевной, а если и совершаешь грехи, то не мне, малому и сирому, судить о них. Велик ты над нами, княже, и стол твой недаром великим называется. Многое видно тебе из того, что нам, простым смертным, неведомо. Только одно должен помнить ты, княже: и над тобой есть Бог, и все дела твои Он видит, и все мысли твои до Него доходят. И Суд Страшный ждет тебя так же, как и всех простых смертных. А я, слуга Божий, буду молить за тебя Спасителя, буду просить Пресвятую Богородицу и всех святых наших, чтобы дали тебе мир и покой в правлении твоем, и чтобы земли укрепились, и никакой ворог не мешал бы твоему служению. Только и ты, княже, не забудь о душе своей, моли и ты усердно Спасителя и Пресвятую Деву Марию, чтобы даровали душе твоей покой и мир и простили бы тебе все грехи твои, вольные и невольные.
— Многомудр ты, отче, и в благочестии своем близок к преподобному Сергию,— сказал Василий Васильевич,— Оттого и любо мне беседовать с тобой. Понимаешь ты княжеские заботы, мысли мои угадываешь... Покой даешь... Покаяния грешной души моей не отвергаешь и берешь на свою чистую душу помыслы мои непотребные, дела мои многогрешные...
Отец Мартиниан перекрестил князя, положил свою сухую руку на его голову и тихо сказал:
— Господи, прости ему все грехи, вольные и невольные...
Тишина воцарилась в келье. Великий князь и троицкий игумен сидели друг против друга в узкой келье, но святой отец глядел на иконы в углу и, сложив руки на груди в молитвенном жесте, тихо шептал «Отче наш», и «Трисвятое», и «Царю небесный», и «Богородице, Дево, радуйся»... Князь тоже негромко вторил ему, пока святой отец не отчитал молитвы, которые считал нужным произнести.
И снова стало тихо. По келье носилась огромная муха, залетевшая в открытое по летнему времени маленькое оконце. Она никак не могла найти выхода на улицу и потому сердилась и жужжала. Отец Мартиниан встал, приподнял легкую занавеску на окошке и снова сел, теперь уже около великого князя, положив свою сухую узкую руку на широкую княжескую ладонь, привыкшую к удилам и ратному снаряжению. Игумен хотел еще что-то сказать, добавить к тому, что уже было произнесено, но великий князь опередил его.
— Еще имею нужду в тебе, отче.
Опять Мартиниан, как и в первый раз, тихо произнес:
— Говори.
— Знаешь, наверное, что после твоего Ферапонтова монастыря пошел я в Тверь, к князю Борису Александровичу. Замирился с тверским князем, помолвил своего сына Ивана, хотя ему всего семь лет было, с дочерью Бориса Марьей. Получил помощь от него, да и потом помогал мне Борис неоднократно. Ведаешь, конечно, что поженили мы детей наших, и князь Иван, сын мой, с двенадцати лет стал именоваться, как и я сам, великим князем.
— Знаю я все это, княже,— мягко сказал Мартиниан, ожидая, когда Василий Васильевич перейдет к главному.
— В мире мы с князем Тверским, да вот чую я, что есть у него думы о великом княжении. Издавна князья тверские себя выше московских ставили, издавна соперничали с нами. И хоть ничего не говорит вслух князь Борис Александрович, хоть и почитает меня за старшего, а потихоньку переманивает бояр моих, надеется, видно, собрать их потом... А там, глядишь, и откроется тайный замысел, ибо давно Тверь тягается с Москвой, давно метит занять главное место среди земель русских.
Василий Васильевич говорил твердо, горячо, видно, и вправду всерьез задумался о тверском князе. Отец Мартиниан с душевным удовлетворением отмечал, что исчезли робость и неуверенность великого князя, тверже стал он в словах и делах, больше стал заботиться о сплочении земли Русской. В тайные замыслы тверского кн^зя игумен верил мало, но перебивать государя не стал. Пусть говорит, что на душу легло, пусть облегчит словами боль сердца, что мучает его. Не предавал Василия Борис Тверской, не отказывался от крестного целования, от помощи, от всяческой поддержки. Но вперед смотрит великий князь. И прав... Что замыслил Борис Тверской, трудно сказать, да и кто знает, как повернутся его помыслы позже. Не лучше ли сейчас упредить нежеланное?
Изменился государь, очень изменился в последнее время. И есть в этом малая, совсем крошечная заслуга его, инока Мартиниана. Игумен поймал себя на этой горделивой мысли, смутился внутренне и дал себе наказ: сегодня перед сном вдвое больше обычного прочитать молитву Иисусову и отбить поклонов, дабы дух самомнения не смущал слабую душу.
— Разумно и по-государственному мыслишь, великий княже,— сказал он своим тихим голосом.— Дай тебе Боже и в дальнейшем мудрости и твердости.
Он перекрестил Василия Васильевича и спросил:
— А я, сирый и малый, чем могу помочь в твоих великих сомнениях?
— Просьба нижайшая к тебе в следующем,— ответил князь.— Боярин мой Матвей Плещеев отъехал от меня к великому князю Тверскому. Земли у него там, решил перекинуться ближе к родовому гнезду. А может, и дал ему Борис Тверской какие посулы — мне то неведомо. Знаю только, что боярин умен и нужен мне, в ближайших советниках ходил, все мысли мои знает, да и сам советов дельных немало давал.
— Ты же с князем Тверским сродственник, попроси его завернуть боярина твоего...
— Да, сродственник,— вздохнул великий князь,— Князь Юрий Дмитриевич дядей был, князь Дмитрий Шемяка — братом, князь Василий Косой — тоже брат... А как они за великое княжение боролись, почти четверть века покою не было. Про Бориса же Тверского я тебе уже говорил. Есть, думается, у него тайные замыслы...
— Договоры да грамоты заключи с ним.
— Отец святой, вспомни опять Шемяку. И крест целовал, и докончательные грамоты подписывал, и проклятые грамоты давал... Однако не было числа его изменам.
— Знаю, знаю,— откликнулся Мартиниан,— многое знаю про зависть и злобу людскую, про жестокость и властолюбие. Да боярин твой тебе верой-правдой служил. Может, обидел ты его чем?
— Может, и обидел. Не знаю о том и не ведаю. Одна мысль у меня все время в голове была, одна гвоздем проклятым сидела — про князя Дмитрия Шемяку... А сейчас вот дошло до меня писание монаха тверского, по имени Фома.
— Не тот ли, что с митрополитом Исидором да Симеоном Суздальцем на Флорентийский собор ездил?
— Нет, судя по писанию, не тот... А может, и тот, только скрывается, прячет свое настоящее лицо. Тот ведь боярином тверским был...
— Ведаю... Но и бояре часто становятся монахами...
— Нет, все одно — не похоже... Списали то писание мои люди в Твери и мне доставили. Знаешь, как называется?
— Не ведаю.
— Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче...
— Так что дивного тут? Инок своего князя прославляет... Видимо, любят Бориса Тверского в его землях...
— Любят... Так любят, что называют «государем», «вторым Константином», глаголят «все вселенные похвалы о великом том самодержце», говорят, что «воистину достоин он венца царского»... Бога благодарят, что даровал им нового Ярослава, самодержавного великого князя Бориса Александровича...
Видно, внимательно и не один раз слушал Василий Васильевич чтение сего слова, если запомнил все эти похвалы! А великий князь, продолжая удивлять отца Мартиниана, говорил с внутренней досадой:
— И уж так превозносит инок сей Фома своего господина, что считает, будто «возвысилась слава его в странах далеких, и слышали о сем государе многие люди в разных землях и приходили из тех далеких стран, чтобы увидеть князя Бориса Тверского»...
Пока Василий Васильевич рассказывал троицкому игумену о только появившемся похвальном слове тверскому князю, лицо его заалело пятнами, тонкие пальцы пришли в движение, и голос стал гневным. Сильно, видно, задело великого князя искусное иноческое писание, возмутило душу восхваление тестя. Хотя много справедливого было в том слове: Борис Александрович Тверской славился мудростью и силой. Василий Васильевич понимал это, искал дружбы с тверским князем, заключил с ним союзный и брачный договор. С его помощью утвердился на престоле великокняжеском, под его защитой сел на Москве. А ныне вот опасается своего родственника и союзника, сердится от похвал ему, боится, что появится еще один соперник в великом княжении...
Отец Мартиниан вздохнул про себя: устал он от близости к великому князю, устал от бесконечных княжеских усобиц, от постоянного участия в мирских делах, от столкновений со всеми сатанинскими происками в нашем грешном мире. Однако виду не подал, спросил только:
— Так что, боярин твой, Плещеев, в Твери?
— Наверное.
— И что государю надобно?
— Хочу, чтобы он вернулся ко мне,— резко и прямо сказал великий князь.
— А ну как не захочет?
— Уговори!
— Ты сам-то, государь, звал его?
— Звал. Грамоту с гонцом посылал.
— И что ответил?
— Что желает служить князю Тверскому.
— Если тебе так ответил, что же я услышу?
— Ты его духовник... Тебя послушает,— убежденно сказал Василий Васильевич.— Вспомни, как преподобный Сергий мирил князей, как ездил к Олегу Рязанскому, чтобы склонить его к замирению и союзу с великим князем Дмитрием Донским, как по велению митрополита Алексия закрыл церкви в Нижнем Новгороде, когда суздальский князь Борис захотел утвердить свое княжение ханским ярлыком... Принудил-таки князя к повиновению. Если ты скажешь боярину Матвею, чтобы вернулся ко мне,— он послушается.
— А если нет?
— Именем моим взывай... Скажи, что милостив буду к нему, что ценю его и желаю, чтобы оставался по-прежнему ближним боярином, чтобы помогал мне в великом княжении советами и делами, чтобы служил мне как верный слуга... И еще скажи, что великий князь отметит и вознесет его в своей княжеской милости...
Отец Мартиниан молчал. Многое пронеслось в эти минуты в голове его. Вспомнил, как будучи великим князем Дмитрий Шемяка. обещал рязанскому епископу Ионе, что отпустит детей опального тогда Василия Васильевича и обласкает их, а сам отправил малолетних отпрысков в ссылку к отцу... Вспомнил, как корил владыка Иона князя Дмитрия, как каждый день уговаривал снять с него бремя неправедной клятвы, ибо поклялся Иона боярам, беря детей Василия на свою епитрахиль, что не будет им зла.
Опустился игумен на колени перед святыми образами в своей келье и стал молиться, прося Господа помочь в трудном вопросе... Но не дал Господь никакого знака, предоставил самому Мартиниану решать, выполнить ли просьбу великого князя. Просьба-то была справедливой: умен и честен боярин Матвей Плещеев, нужен он государю на Москве, да вот будут ли почести да богатство у вернувшегося беглеца?
Василий Васильевич терпеливо ждал, пока помолится игумен. Что было в его голове — Бог ведает, но что обида крепко засела в сердце — это точно. Не мог допустить великий князь, чтобы его люди бежали к Борису Тверскому, не мог вынести громогласного восхваления этого князя, не мог спокойно думать о соперничестве с ним. Отец Мартиниан знал все это, но понадеялся, что слово великого князя будет на этот раз твердым, что вернется боярин Плещеев в Москву и будет служить государю с честью.
Вставая с колен, сказал игумен великому князю:
— Будь по-твоему... Сошлюсь с боярином, позову к тебе, передам все твои слова. Надеюсь, послушает меня мой духовный сын.
Василии Васильевич медленно опустился на одно колено и поцеловал сухую жилистую руку троицкого игумена.
Но не сдержал своего слова великий князь... Видно, на этот раз обида помутила его разум, ярость обуяла сердце, гнев затуманил голову. Когда боярин Плещеев вернулся в Москву, Василий Васильевич приказал заковать его в оковы, посадить в подвал глубокий, да разве что голову не велел снять с плеч.
Отец Мартиниан узнал об этом не сразу. Уже теплые ночи сменились утренними холодами, уже прошли все Спасы и готовились опять к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, как в одно туманное серое утро услышал он страшную весть. Игумен шел по монастырскому двору, привычно думая о надвигающихся холодах, о запасах на зиму, о своем большом монастырском хозяйстве, когда упала перед ним на колени боярыня-средолетка, ухватилась за черную рясу, уткнулась лицом в нее и зарыдала так, что и понять было невозможно, чего она хочет.
А когда услышал отец Мартиниан имя Матвея Плещеева, когда понял, почему воет эта крепкая, как спелое яблоко, женщина, когда уяснил почему, глаза ее набухли от слез и щеки покраснели, гнев обуял его душу. В этом гневливом порыве велел он приготовить коня и сел на него, только и успев дать необходимые распоряжения монастырскому келарю Илариону да взяв с собой в путники инока из тех, что покрепче.
Семьдесят верст до Москвы не проскачешь галопом, долгие часы не пребудешь во гневе. Отец Мартиниан быстро устыдился своего яростного порыва. Понял он, что недозволенные иноку страсти омрачили его душу. Тогда слез игумен с коня, и молился в придорожной часовне, и просил Господа простить его за то, что позволил сатанинским чувствам на время овладеть им. Гнев понемногу, не сразу, а постепенно уходил из души, и осталась лишь горькая печаль, такая жгучая, такая едкая, что вытравляла сердце, и оно кровоточило, будто вонзили в него что-то острое, что невозможно вынуть и невыносимо ощущать.
Многое передумал троицкий настоятель за те часы, пока добирался до стольного града. Снова вспомнил преподобного Сергия, и владыку Иону, и свое чувство там, в келье, когда великий князь просил его, а он, Мартиниан, подавлял свое недоверие как постыдное, но все-таки живущее где-то в глубине.
И еще вспомнил святой отец об игумене Киево-Печерского монастыря Феодосии. Тогда тоже был раздор между князьями, братьями по крови, и два брата несправедливо изгнали третьего, Изяслава, старшего среди них, христолюбивого и кроткого. Отказался святой игумен присоединиться к неправедному союзу двоих. Обличал преподобный князя Святослава за беззаконное изгнание старшего брата, через вельмож передавал гневные свои слова и письмо написал. Князь же пришел в ярость и грозил блаженному заточением. Братия умоляла Феодосия не обличать князя, чтобы не оказаться в темнице. Но князь, хоть и гневался страшно, не дерзнул причинить зла преподобному. Но то был Феодосии... Разве может Мартиниан в своей худости сравниться с ним...
Вблизи Москвы коней пустили быстро. То ли от этого бега, то ли от близости княжеского дворца чувства снова взбунтовались, и было ясно, что идти с такой взбудораженной душой к великому князю не надо.
Отец Мартиниан вошел в Успенский собор и встал на колени перед иконостасом. Строгий Судия и Спаситель, изображенный сидящим на престоле, взирал на склоненного инока. Но стоило Мартиниану повернуть голову, как в глаза бросилась давняя, хорошо знакомая икона, которую за гневливый взгляд Спасителя прозвали «Спас Ярое Око». И куда бы ни смотрел Мартиниан, на каких бы образах ни останавливал взор, гневные очи Господа всюду следили за ним. Игумен испугался, что накажет строгий Судия великого князя за его постыдный обман. А троицкий настоятель и сейчас не желал, чтобы московский государь претерпевал какие-то бедствия. Однако хотел инок, чтобы раскаялся Василий Васильевич в совершенном грехе, чтобы изменил то, что произошло, чтобы выпустил из темницы боярина и устроил все так, как обещал в обители преподобного Сергия.
— Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша,— горячо шептал игумен.
И хотя Бог все видит и все знает, отошел игумен Мартиниан от образа строгого Судии, от Его гневных глаз, от Его сурового взора и встал перед иконой Богоматери, перед Ее Владимирским образом, который издавна защищал и охранял людей от бед и напастей.
С Пресвятой Девой не страшно было разговаривать и не стыдно было поведать ей все, что произошло. И не гнева ждал от нее смиренный игумен, а участия. Потому и просил Царицу Небесную вразумить заблудшего сына великого князя земли Русской, дать почувствовать ему всю постыдность и невозможность его поступка, смягчить душу его, предавшуюся гневу и ярости.
— О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Выше еси всех Ангелов и Архангелов, и всея твари честнейши, помощница обидимых, ненадеющихся на деяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех положение и заступление... Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского. Подай, Госпоже, мир и здравие рабам твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи сердечные...
Помолившись так в главном соборном храме, у главной святыни Руси, троицкий игумен направился в палаты к великому князю.
Василий Васильевич не ждал его. Отодвинув в сторону ближних слуг, которые знали настоятеля Сергиевой обители, отец Мартиниан быстро прошел в горницу, где великий князь в одной белой вышитой рубахе и с неповязанными глазами слушал своего дьяка-чтеца. Василий Васильевич был опять бледен и худ, волосы на голове заметно поредели, а лицо с ввалившимися пустыми глазницами казалось страшным, нечеловеческим.
Войдя в покой, монах перекрестился на божницу в углу, затем приблизился вплотную к великому князю и сказал то, что обдумывал дорогой:
— Так-то праведно, господин самодержавный великий князь, научился ты судить? За что ты душу мою грешную продал и послал в ад? Зачем боярина того, призванного мною, моею душою, повелел оковать и слово свое преступил? Да не будет от меня, ничтожного, благословения на тебе и твоем великом княжении.
И повернувшись к двери, быстро ушел из покоев. Снова сев на коня, игумен возвратился к Живо-начальной Троице в Сергиев монастырь.
Правильно говорил многомудрый и велеречивый константинопольский патриарх Иоанн Златоуст, живший в IV веке после Рождества Христова, что царский гнев ярости львов подобен. Не успел троицкий игумен выйти из государевых палат, как вскочил великий князь на ноги, закричал, как низшему слуге своему: «Назад!» Ринулся было к двери, да в слепоте своей побоялся запнуться, упасть... Так и остался посреди палаты с лицом бледным, как у Спасителя на кресте.
То ли не слышал блаженный Мартиниан слова государева, то ли не пожелал вернуться, только его быстрые и легкие шаги мгновенно утихли где-то вдали, а великий князь от гнева сжимал кулаки. Губы его, тонкие, бледные, вытянулись в прямую нить, щеки ввалились, и волосы вдруг упали на лицо, хотя не было ветра в царской палате. Слуги вбежали, и ближние бояре вошли, но никто не смел прикоснуться к правителю и спросить, что было здесь несколько минут назад. А сам великий князь стоял не двигаясь, подобно жене Лота, обращенной в соляной столб за то, что нарушила запрет Господа и оглянулась. Жена Лота посмотрела назад, а Василий Васильевич будто заглянул вперед — и ужаснулся тому, что сделал и сказал чернец, которому он верил и которого в глубине души боялся, ибо знал, что слышит Господь молитвы его. Ужаснулся тому, что снял монах свое святое благословение с него, великого князя, и с его великого княжения. Будто пал святой покров, который защищал Василия с того времени, как ходил он из Вологды в Кириллов и Ферапонтов монастыри, с тех самых дней, как взяли на себя его грехи два игумена — Трифон и Мартиниан. Повернули они тогда мысли опального князя, большую правду ощутил он в словах иноков. Крепко поверил, что благословение священников — это благословение Божие, что молитвы этих чернецов будут услышаны Спасителем и Его Пресвятой Матерью. С тех пор о духовной поддержкой блаженных отцов, которые теперь игуменствовали рядом с великим князем, с невидимой защитой преподобных Кирилла Белозерского и самого Сергия Радонежского вершил свои дела Василий II, внук Дмитрия Донского. По молениям своих угодников Господь посылал ему удачу в делах правления. А страдания, которые принял несправедливо согнанный с великого стола князь, только поднимали и возвышали его душу, укрепляя веру в справедливость борьбы с беспокойным и зловредным Шемякой.
Теперь вот что сделал проклятый чернец! Не убоялся ни казни, ни заточения. Вошел незваный, словно ветер ворвался, переворошил все в душе и покинул государев дворец, словно не был подданным великого князя, словно явился из другой страны, где был у него другой господин, которому он должен повиноваться. И те первые мысли, которые мелькнули в голове Василия, когда он крикнул игумену, точно собаке, «назад!», те мысли, что взбунтовали его кровь и заставили щеки покраснеть от гнева, те гневные мысли были о каре, которая должна постигнуть непочтительного ослушника.
Однако время шло, и дерзкие, жестокие, гневливые помыслы стали постепенно исчезать во тьме греховной души князя. Черный смерч злонамеренных побуждений уносился прочь, и душа словно освобождалась от пут, сковавших все благие чувства, но выпустивших на волю сатанинские помышления.
Не обращая внимания ни на слуг, ни на ближних бояр, Василий Васильевич сделал несколько шагов к красному углу палаты, где мерцали в неярком пламени лампад начищенные до блеска оклады его, государевых, домовых икон. Слепец опустился здесь на колени, не наткнувшись ни на что, ибо давно уже знал каждый вершок в своем доме и без слуги находил нужные веши, которые лежали всегда на своих местах. Иконы он тоже помнил вое или думал, что помнил: и Нерукотворный образ Спаса, что стоял в середине, и Богородицу Одигитрию с Ее предвечным Младенцем, смотрящим прямо на молящихся, и Николая Чудотворца, епископа далеких Мир Ликийских, с красными крестами на аналаве, лежащем на плечах и спускающемся вниз спереди и сзади. Другие свои святыни князь подзабыл, но эти три образа были всегда перед глазами, вернее, перед его внутренним взором, словно и не прошло столько долгих лет с тех пор, как очи его перестали видеть белый свет.
Великий князь опустился на колени и в низком земном поклоне коснулся пола лбом, замерев так на долгое время. Старший боярин махнул рукой, и все сбежавшиеся вместе со слугами, тихо ступая по ковру, вышли из палаты. А Василий Васильевич, простершись пред святыми иконами, воздал хвалу Спасителю за то, что удержал от поспешного решения и угасил кровавый пожар, вспыхнувший было в душе; за то, что остудил огонь, полыхавший в груди, утихомирил страсти и вернул на путь кротости и смиренномудрия. Распрямившись и повернув лицо к образам святых, благодарил князь великого и мудрого Жизнедателя за то, что в первые минуты не приказал задержать дерзкого чернеца, за то, что не сорвалось с уст то слово, которое так трудно было бы потом исправить. Еще думал он о суде Божием и о том, как он сам предстанет перед ангелом, в руках которого будут весы для злых и добрых дел.
— Хоть и царскую я принял власть и могу судить самовластно,— тихо шептал великий князь,— но пред очами Божьими весь наг и обнажен: ведь судит Он и царя, как простого человека.
И понял государь Василий II, что прав, прав был дерзкий чернец, пришедший, чтобы обличить его, и не только обличил, но и запрет наложил... Стоя на коленях, сложив руки на груди, великий князь взывал:
— Боже великий и милосердный, прости меня, ибо виновен я перед Тобой. Согрешил я, нарушил слово свое, заковал боярина Плещеева в железы и ввел во грех игумена из обители Живоначальной Троицы, что основал преподобный Сергий. Устроил он обитель свою во славу Пресвятой Троицы, чтобы воззрением на нее побеждались рознь и страх мира сего... И ты, великий радонежский чудотворец, прости меня, грешного, ибо раскаяние мое искренне и велю я исправить неправоту свою...
Долго еще молился великий князь пред святыми иконами, долго казнил себя за грехи свои. А когда встал, позвал ближнего боярина и приказал тотчас выпустить опального Плещеева из железных оков, хорошо накормить, дать одежду с княжеского плеча и снарядить лошадей, ибо захочет плененный поскорее добраться до родного дома. И еще велел государь собрать наутро ближних бояр и приготовить лошадей к дальней поездке, а куда ехать изволит — не сказал, ибо какие-то тайные мысли были у него на сей счет.
Утром в большой палате великокняжеского дворца в Кремле собрались ближние бояре и князья. Василий Васильевич, убранный по-парадному, с посохом в руке сидел на резном золоченом стуле. Рядом с ним стоял старший сын Иван, тоже величавшийся великим князем, ибо был он соправителем отца и участником всех важных государственных дел. Ни одно решение не принималось теперь без слова этого не по годам мудрого тринадцатилетнею отрока.
Бояре в высоких шапках и длинных кафтанах чинно сидели на покрытых красным сукном лавках, расставленных вдоль стен. Были они похожи друг на друга оттого, что пол-лица скрывали бороды — седые, черные или русые, длинные или короткие, широкие, узкие или торчащие клином вперед. Да великий князь все равно не видел их. Он давно уже научился распознавать своих подданных по голосу, по походке, по запаху. Недаром говорят, что слепцы видят ушами да носом.
Василий Васильевич стукнул жезлом об пол, и тотчас установилась такая тишина, что стало слышно, как на дворе заржала лошадь. Великий князь сдвинул брови и начал в горести и с обидой:
— Бояре! Все слышали о том, как явился сюда вчера троицкий игумен Мартиниан?
— Слышали,— прошелестело из разных углов палаты.
— Все знают, что было далее?!
Шелест голосов был недружен: отвечали вразнобой. Кто говорил «знаем», кто — «не ведаем»...
Василий Васильевич резко встал, снова стукнул жезлом об пол и заговорил громко и гневливо:
— Бояре, посмотрите на этого чернеца болотного! Что сделал?! Придя ко мне, напрасно обличил и Божие благословение снял, и без великого княжения меня оставил!
Бояре с тоской и недоумением глядели на великого князя. Хорошо, что глаза у того незрячие, не видит правитель, как смущены его слуги, не может заглянуть в глаза каждому, не в силах прочитать тайные мысли, что роятся в седовласых головах. И что отвечать великому князю? Если прогневался на игумена, задержал бы его в Кремле... Посадил в подвал, под замок... А то ведь отпустил к Живоначальной Троице и вдогонку никого не послал. Может, не сильно гневается, если отпустил с миром? Да и говорят ближние слуги, что ни словом не ответил великий князь на дерзостную выходку игумена, крикнул вроде что-то, да никто и не разобрал, что именно... И что сейчас удумал государь? Зачем собрал всех? Если хочет лишить Мартиниана игуменства и сослать обратно на север — так нужен освященный собор. А здесь духовенства маловато. Митрополит Иона да кремлевские архиереи, а епископов нет никаких. Да и не успели бы они в Москву. Хотя если вечером князь послал бы скорых гонцов, кое-кто мог приехать. Вот и теребили бояре бороды, смотрели в пол, бросали косые взгляды друг на друга и на великого князя, не зная, чего от него ожидать.
Молчание было долгим, томительным. Все уж стали ждать бури после столь продолжительного затишья, но великий князь внезапно потерял свой грозный вид, брови распрямились и лицо разгладилось. Он упал на колени возле своего трона и протянул руки вперед, по-прежнему сжимая в правой длани государев посох и опираясь на него.
— Виноват я, виноват я, бояре, перед Богом и перед тем чернецом! Забыл во гневе слово, данное ему, причинил зло боярину Плещееву, что отбежал от меня к великому князю Тверскому. Просил я игумена троицкого вернуть боярина обратно, обещал милость и покровительство, и сам же слово свое порушил! Заточил боярина в оковы и причинил ему зло... И теперь вот решил я, бояре: поедем к Живоначальной Троице, та нас рассудит! Пойдем к преподобному Сергию и к игумену тому Мартиниану, помолимся вместе, попросим прощения... Может, и смилостивится Господь наш, и его слуга блаженный Мартиниан, и все великие троицкие чудотворцы. И простит нас Бог за грехи наши тяжкие!
Великий князь опустил голову и стоял на коленях перед всеми, прекрасный в смирении своем. Сын Иван подошел к Государю, помог подняться. Бояре зашумели, загудели, и в гуле том, тихом, дружном, добром, слышались лишь отдельные слова:
— Велик и в горести государь наш!
— Премудр и рассудителен!
— Смиренен и богобоязнен!
Стали дружно собираться в Троицкую обитель, но прежде чем тронуться в путь, Василий Васильевич продиктовал дьяку свой указ: выделить боярину вотчину из своих земель, и жалование определить, и приблизить к себе. Хотя разговор с боярином решил отложить до возвращения.
Говорят, что худые вести быстрее добрых несутся. Но на этот раз хорошая новость неслась впереди быстрых княжеских коней, будто бурный весенний поток, шумя, радуясь и оповещая всех на пути о своем приближении. Да и как было не нестись ей, если сам боярин Плещеев скакал без остановки в Сергееву обитель. Конь под ним был добрый, с княжеской конюшни, и торопился счастливец пасть в ноги игумену, спасшему его. Рад был боярин внезапному освобождению, а все-таки опасался коварства: а ну как великий князь снова передумает, а ну как пошлет вдогонку слуг и велит перехватить по дороге в Троицу, вдруг устроит засаду у монастыря, в отместку дерзкому игумену...
Но ничего страшного не произошло. К окончанию обедни боярин был в монастыре, и суровый игумен Мартиниан встретил его в своей келье. После рассказа боярина подобрело лицо чернеца, разгладились морщины на челе и возблагодарил он, как и положено, Господа Бога, и Пресвятую Деву Марию, и Сергия-чудотворца за то, что свершилось все так, как свершилось, и не дал Спаситель произойти тому злу, что задумал сатана с попустительства Его.
А гонцы один за другим прибывали в монастырь и сообщали о движении великого князя и бояр. Вот он выехал из ворот града, вот проехал Крестовскую заставу, вот миновал село Алексеевское, а за ним — Тайнинское... Отдыхал в Мытищах у громового колодца с лучшей водой, открывшейся после удара молнии; переехал реку Учу у села Пушкино, а затем речку Ворю и зашел в Хотьковский монастырь, где отслужил малый молебен у раки родителей преподобного Сергия.
И вот уже Василий Васильевич приближается к Троице. Сумерки окутывали монастырский двор. Закат был красный, тревожный, с длинными прямыми темными облаками, иногда перекрывавшими огненное светило. Ударили колокола в обители, игумен с братией вышли навстречу великому князю за монастырские ворота. Ждал игумен первых слов своего духовного чада, ждал искреннего раскаяния и не ошибся: пал великий слепец на колени, склонил голову и сказал громко, чтобы слышали все бояре и все иноки, чинной черной толпой стоящие за своим настоятелем:
— Согрешил я, святой отец. Прости грех мой тяжкий, даруй мне свое благословение и пусть будет оно со мною до конца дней моих, и на детях моих, и на моей великом княжении.
Возложил игумен Мартиниан руки свои на склоненную голову великого князя и от всей души со слезами на глазах благословил его. Потом сам стал на колени перед князем и просил у него прощения о дерзновении своем.
В храме Живоначальной Троицы отслужили молебен, особенно умиленно лобызали раку с мощами преподобного Сергия и просили даровать мир и покой земле Русской, и стольному граду Москве, и обители Троицкой, и великому князю.
«А истинный христолюбец князь Василий,— говорит древнейший летописец,— накормив братию и монастырь одарив, ушел в радости на стол свой в славный град Москву благословен и прощен навеки».
Дня в Троицкой обители были какими-то суматошными и дергаными. Велик монастырь, и хозяйство у него немалое, и братии много, и богомольцев. Обо всех надо заботиться, всех накормить-напоить, разместить и согреть, а болящих — лечить. Вот и получалось, что хозяйственные заботы отнимали так много времени, что становилось горько. И хотя келарь Иларион многое вершил сам, все-таки без совета с игуменом и половины дел не делалось. А ведь они не были главными. Заботы о душах поселившихся в монастыре не давали покоя собственной душе. Отец Мартиниан пристально наблюдал за своими иноками и со скорбью душевной видел, что жили в них зависть и злоба, сребролюбие и сладострастие, ненависть и лень.
Тяжка была ноша грехов духовных детей игумена, и преклонял настоятель колени, и молился за чад своих, и за себя, многогрешного, ибо не хватало у него подчас сил и умения вести обитель так, как вел ее святой Сергий.
Стихами священной книги христиан Библии, высокими и мудрыми словами апостолов и евангелистов обращался он к Господу и Его Пресвятой Матери, возносил хвалу всечестным отцам, просветившимся светом небесным и потому почитаемым всеми христианскими народами. Читал отец Мартиниан светлые и торжественные молитвы, сложенные греческими святыми Иоанном Дамаскиным и Андреем Критским... Любил псалмы библейского царя и пророка Давида, особенно пятидесятый, покаянный, и часто обращался к Господу стихами, сложенными за десять веков до Рождества Христова:
— Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мои всегда предо мною...
В чистых порывах души, доведенной постами и молитвами до особого, внетелесного существования, взывал стареющий игумен ко Вседержителю:
— Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего снятого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня... Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою...
Каждый день в своих молитвах взывал игумен к чудотворцу Сергию. В благодарственной молитве преподобному, которого троицкий игумен постоянно призывал в помощь себе и своему иноческому и наставническому служению, повторял отец Мартиниан похвальные слова, которые сложил еще инок обители Епифаний Премудрый:
— О святой Божий Спасов угодник! О преподобный избранник Христа! О священная глава, пребла-женный авва великий Сергий! Не забудь нас, твоих нищих, до конца, но поминай нас в твоих благоугод-ных молитвах ко Господу! Помяни стадо свое, которое ты пас, и не забывай посещать своих чад. Имея дерзновение к небесному Царю, молись за нас, твоих духовных детей, о святой отец; не умолкай, вопия за нас ко Господу, не презри нас, верой и любовью почитающих тебя. Помяни нас, недостойных, у Престола Вседержителя и не переставай молиться о нас Христу Богу, ибо тебе дана эта благодать. Мы не думаем, что ты умер; хотя телом ты преставился от нас, не покидай нас духом, о наш добрый пастырь. Гроб с твоими- мощами стоит перед нами, и твоя святая душа невидимо, с ангельскими воинствами, с бесплотными ликами, с Небесными Силами благолепно и достойно веселится у Престола Вседержителя. Мы знаем, что ты жив и после смерти, потому что пророк сказал: «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их... Надежда их полна бессмертия... потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его...»
Заканчивал Мартиниан свою долгую и умилительную молитву к Сергию Чудотворцу словами о том, что преподобный воспринял Царство Небесное от Господа, просил Всевышнего, чтобы все иноки, все верующие были наследниками вечного блаженства по благодати Господа нашего Иисуса Христа, и славил Святую Троицу, воздавая честь и поклонение Богу-Отцу, Богу-Сыну и Богу—Духу Святому.
Еще одна большая забота постоянно мучила отца Мартиниана: стольный град Москва был совсем близко, и великий князь часто беспокоил обитель, одолевая своими государственными делами, не давая возможности в тишине и спокойствии заботиться о спасении души.
Вот и третьего дня прискакал от него посол. Сообщал Василий Васильевич, что скоро будет в обители и что имеет он великую нужду в разговоре со святым игуменом.
Лето в этом году было мокрым, многодождливым. Шумели беспокойные ручьи, оставляя после себя разрушенные мосты да размытые дороги; вода в реках поднималась, сносила ненадежные переправы, затопляла низины, делала непроходимыми овраги.
К приезду великого князя пришлось снаряжать гонцов по селам и следить за тем, чтобы быстро сделали гати, починили малые переправы да разровняли глубокие колеи, иначе — не дай Бог! — сломает какой-нибудь конь ногу или упадет вместе с седоком. Правда, великий князь особенно не торопился, ездил спокойно, с остановками, и разбитой дороги не видел из-за своей слепоты, да бояре имели глаз острый и шептали на ухо, радуясь государеву гневу, направленному на других.
Отец Мартиниан был у великого князя в почете. Как поверил опальный Василий игумену тогда, в Ферапонтове, так и верил до сих пор, приезжал в Сергиеву обитель для совета, а то и вызывал Мартиниана к себе в Москву.
Сейчас, видно, нужда была велика, если собрался великий князь по расхлябанным дорогам в монастырь за семьдесят верст. Знать, мало было кремлевских иереев да Ионы-митрополита, если ехал в Троицкую обитель, на поклон к преподобному Сергию.
Отец Мартиниан ждал Василия Васильевича. Монастырский двор, как водится, очистили особенно тщательно, приготовили на поварне положенную по дню еду, а покои отмыли добела. Готовили и подарки, но до поры до времени игумен велел держать все в секрете: вдруг не успеется, а слух уже поползет.
О приближении великого князя сообщили к обедне. Игумен велел задержать службу в Троицком храме и сам с иноками вышел встречать правителя за ворота. Вообще-то за монастырскую ограду старались без особой нужды не выходить, ибо чтили завет преподобного Сергия, который велел инокам как можно реже покидать обитель, но приезд князя — особый случай.
Небольшой отряд всадников с развевающимся княжеским штандартом от села Клементовского чинно спустился в долину, а затем поднялся в гору к монастырским воротам. Великий князь спешился, подошел под благословение игумена и чинно двинулся за монахами к собору. Его дружина, тоже пешая, вошла в обитель, отдав коней конюшенным отрокам. Отец Мартиниан отметил, как поздоровел и порозовел лицом великий князь, как нарядно вышита повязка на его глазах. Особенно понравилось, что держался Василий гордо, по-государевому, плеча боярина чуть касался, не боясь ступать вперед, словно знал или чувствовал дорогу. Эти уверенность и спокойствие так отличали нынешнего князя от того слепца, которого увидел Мартиниан в первый раз, что поневоле пришла на ум мысль: чтобы стать истинным государем, надо было пройти все страдания и лишиться зрения.
Зазвонили колокола, возвещая начало службы. Великий князь, иноки и гости прошли сразу в Троицкий храм и здесь отстояли литургию по полному чину, как положено.
Потом всех позвали в трапезную. Порядки в монастыре, как и при Сергии, были строги: ели и пили сообща в уставное время, достойно и благочинно. Всем доставалось поровну, так что обид не было. Пищу вкушали с глубоким смирением, в молчании, ибо, как не уставал повторять Мартиниан, это всегда должна быть трапеза царская, святая, а лучше сказать — Христова, для всех равная и изобильная, ни у кого зависти не вызывающая. Она должна содействовать благоуханию аромата заповедей Господних, потому во время трапезы иноки читали Святое Писание или жития святых, приличествующие случаю.
Сегодня читали Псалом 145. Была в нем незримая связь со слепцом — великим князем, которому Господь отверз очи, внушил благие помыслы и утвердил на великом столе, вознаградив за страдания твердостию духа и государственным разумом. Вместе с тем были там и строки, возвышающие власть духовную, власть Господа и его служителей над мирской властью.
— Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надеетесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, а он возвращается в землю свою; в тот день исчезают помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаков-лев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым,. Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во веки... Аллилуйя.
Слушая этот псалом, великий князь перестал вкушать пищу, а когда кончилась трапеза, похвалил чтеца и тут же от щедрот своих преподнес монастырю мешочек с деньгами да жалованную грамоту на Кинельские села. Дьяк великого князя громогласно прочитал ее:
«По приказу своей госпожи, своей матери, великой княгини Софии, я, князь великий Василий Васильевич, дал в дом Живоначальной Троицы в Сергиев монастырь села ее Кинельские, Чечевкино да Слотино, с деревнями... кроме тех земель волостных, которые подавал я, князь великий, своей матери великой княгине к тем ее селам и к деревням...; а дал им те села и деревни и с хлебом, и с животиною, и со всем тем, что в тех селах и деревнях есть, опричь людей страдных, да опричь суда; суд мой, великого князя. А дал я Живоначальной Троице неподвижно в дом те села и деревни по своем отце, великом князе Василии Дмитровиче, и по своей матери, великой княгине Софье, и всему своему роду на поминок».
Дьяк передал игумену небольшое матерчатое полотно, в конце которого, на отгибе края, была приложена желтовосковая княжеская печать. Тот, внимательно осмотрев печать и прочитав еще раз текст, протянул свиток келарю Илариону, чтобы отнести его в ризницу, где хранились подобные и многие другие грамоты.
Мать Василия Васильевича великая княгиня Софья Витовтовна преставилась недавно, полтора месяца назад. Троицкий игумен не поехал в Москву на похороны, остался в обители и сам служил по княгине, как только узнали о ее кончине. В стольном же граде собрались епископы и архиереи. Провожали великую княгиню со многими почестями, а гроб положили в Вознесенском монастыре, в Кремле, там, где лежала ее свекровь, великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского. Нареченная в монашеском чине Евфросиньей, Евдокия была похоронена в основанной ею же обители, где видел отец Мартиниан недостроенный каменный собор, который начал возводиться самой княгиней.
Тогда великий князь не приехал к Живоначальной Троице, лишь прислал гонца с печальным известием да с милостыней великою, чтобы служили по матери с усердием и нередко. Впрочем, отец Мартиниан дело свое знал, и Софью, дочь великого литовского правителя Витовта, поминали по чину ежедневно до сороковин. А они только прошли. То, что великий князь сразу поехал в Сергиев монастырь, лишний раз говорило о большой нужде правителя в Троицком игумене.
Василий Васильевич отдыхать не захотел. Он прошел в настоятельские покои и здесь, расположившись в келье игумена, отослал своих бояр за порог. Отец Мартиниан и великий князь остались одни.
— Давно не бывал я у великой Троицы, давно не дышал здешним святым воздухом, давно не услаждал слух добромудрой беседой с тобой, святый отче,— начал Василий Васильевич.
— И я давно не видал великого князя в нашей скромной обители, давно не слушал его смиренных речей, давно не благословлял государя нашего на его многотрудные дела,— отозвался игумен.
— Благослови, отче, бедного слепца,— со смирением попросил князь, но игумен сразу уловил в его словах неискренность.
— Не бедным слепцом пришел ты сюда, господине, и не подобает тебе им быть. «Господь умудряет слепцов и открывает им очи»,— сказал великий псалмопевец Давид. И я вижу перед собой истинного государя, мудро управляющего страной и дающего достойный отпор врагам своим.
Мартиниан благословил ставшего на колено князя, и тот поцеловал руку игумена. Теперь можно было приступать к делу.
— Имею нужду в тебе, отче,— сказал Василий.
— Говори,— коротко ответил Мартиниан.
— Нету покоя в землях наших,— скорбно начал великий князь.— Только отбежал подальше от стольного града братанич наш князь Дмитрий Ше-мяка, только вздохнул я чуть свободнее, ан нет — начал он Новгород Великий мутить, бояр на меня подговаривать... Вот уж почти семь лет, как сижу я твердо на великом княжении, как выехал князь Га-лицкий из Москвы, а все эти годы не давал мне брат Дмитрий покоя. Никак не мог утихомириться, никак не мог забыть о своих притязаниях. Бегал по Руси, как загнанный волк, земли и селения наши разорял, в Великий Новгород подался, под крышу вольного града, под защиту Новгородского вече. Да только и там достала его судьбина. Отравили его в Новегороде. Посол пригонил ко мне днесь с этой вестью. Вроде курицу ему подали отравленную...
Отец Мартиниан посуровел. Жестокая борьба между князьями шла на его глазах, оковывали друг друга оковами, ослепляли, но на жизнь не покушались. Пример Святополка, убившего братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба и получившего за то прозвание Окаянного, и проклятие ему в веках служили предостережением.
— А кто за тем поваром стоял? — спросил отец Мартиниан.
— Кто его знает,— невнятно ответил великий князь,— Да и что тебе за дело до этого, святой отец? Ты вместе с нами Богу молиться должен, что освободились мы от разорителя земель наших и клятвопреступника. На пользу нам это.
Великий князь вроде как рассердился и сцепил руки на коленях так, что пальцы побелели.
— На пользу-то на пользу,— тихо сказал игумен,— да только надо помнить завет Господа нашего Иисуса Христа: всякую тварь живую жизни лишить может только сам Бог.
— Вот и считай, что Господь лишил злодея его зловредной жизни.
— Не могу так считать, ибо сам же ты сказал, что не своей смертью умер князь Галицкий.
Василий Васильевич помолчал, все так же сжимав пальцы с белыми ногтями, и чувствовалось, что хочет он что-то поведать игумену, да сомневается. Потом, видно, решив держать свое при себе, сказал с раздражением, даже грубо:
— Ну, так и молись за тех, кто взял на себя сей грех великий... Да меня, недостойного, не забудь в своих молитвах.
Князь помолчал и затем, следуя каким-то своим тайным мыслям, добавил:
— Так ведь слухи все это про курицу... Кто знает, от чего умер брат Дмитрий? Может, наказал его Господь ранней смертью за все грехи его... Так что молись, отче, и за меня, многогрешного, и за него такого же...
— Я за всех людей ежедневно молюсь,— ответил отец Мартиниан,— а за тебя, княже, особенно. Ибо взял я на себя, как и кирилловский игумен Трифон, великий грех твой — клятвопреступление и нарушение крестного целования. Взял ради того, чтобы увидеть тебя на великом столе, ибо нельзя было великому князю оставаться в той глуши, куда тебя Шемяка послал. И хотя прошло довольно лет с тех пор, Господь не покарал меня за то деяние. Значит, свершилось все по Его святой воле.
— Вот и сейчас возьми грехи мои на себя,— твердо сказал Василий Васильевич.— Ибо не было у меня другого пути, не мог я ждать мира и покоя для всей земли, пока князь Дмитрий бегал от города к городу, разорял и сжигал посады, да людей губил... Он и Новгород мог за собой увлечь, но волей Бо-жией не свершилось этого злодеяния. А то ведь сколько бы людей погибло да сколько сел и деревень было бы порушено...
— Значит, здесь, в Москве, все было задумано,— понял отец Мартиниан,— от великого князя шли приказы. А там, в Новгороде, только исполняли их.
Он долго молчал в раздумьи, ибо велик был грех сей. Но и дела князя Дмитрия Шемяки были кровавы. Когда на Страшном Суде ангел будет взвешивать на небесных весах грехи каждого, чьи окажутся тяжелее? Шемяка-то тысячекратно нарушал заповедь Господню «не убий», только под Устюгом, рассказывают, сей бесчеловечный князь привязывал камни на шею тем, кто отказывался служить ему, и топил в Сухоне.
Вслух же отец Мартиниан сказал:
— Богу ведомы все грехи людские. Ему лишь одному дано прощать и наказывать. А я, грешный, буду молиться за всех вас и за тебя, княже, наособицу. Знаю, нет в тебе злобы душевной, а если и совершаешь грехи, то не мне, малому и сирому, судить о них. Велик ты над нами, княже, и стол твой недаром великим называется. Многое видно тебе из того, что нам, простым смертным, неведомо. Только одно должен помнить ты, княже: и над тобой есть Бог, и все дела твои Он видит, и все мысли твои до Него доходят. И Суд Страшный ждет тебя так же, как и всех простых смертных. А я, слуга Божий, буду молить за тебя Спасителя, буду просить Пресвятую Богородицу и всех святых наших, чтобы дали тебе мир и покой в правлении твоем, и чтобы земли укрепились, и никакой ворог не мешал бы твоему служению. Только и ты, княже, не забудь о душе своей, моли и ты усердно Спасителя и Пресвятую Деву Марию, чтобы даровали душе твоей покой и мир и простили бы тебе все грехи твои, вольные и невольные.
— Многомудр ты, отче, и в благочестии своем близок к преподобному Сергию,— сказал Василий Васильевич,— Оттого и любо мне беседовать с тобой. Понимаешь ты княжеские заботы, мысли мои угадываешь... Покой даешь... Покаяния грешной души моей не отвергаешь и берешь на свою чистую душу помыслы мои непотребные, дела мои многогрешные...
Отец Мартиниан перекрестил князя, положил свою сухую руку на его голову и тихо сказал:
— Господи, прости ему все грехи, вольные и невольные...
Тишина воцарилась в келье. Великий князь и троицкий игумен сидели друг против друга в узкой келье, но святой отец глядел на иконы в углу и, сложив руки на груди в молитвенном жесте, тихо шептал «Отче наш», и «Трисвятое», и «Царю небесный», и «Богородице, Дево, радуйся»... Князь тоже негромко вторил ему, пока святой отец не отчитал молитвы, которые считал нужным произнести.
И снова стало тихо. По келье носилась огромная муха, залетевшая в открытое по летнему времени маленькое оконце. Она никак не могла найти выхода на улицу и потому сердилась и жужжала. Отец Мартиниан встал, приподнял легкую занавеску на окошке и снова сел, теперь уже около великого князя, положив свою сухую узкую руку на широкую княжескую ладонь, привыкшую к удилам и ратному снаряжению. Игумен хотел еще что-то сказать, добавить к тому, что уже было произнесено, но великий князь опередил его.
— Еще имею нужду в тебе, отче.
Опять Мартиниан, как и в первый раз, тихо произнес:
— Говори.
— Знаешь, наверное, что после твоего Ферапонтова монастыря пошел я в Тверь, к князю Борису Александровичу. Замирился с тверским князем, помолвил своего сына Ивана, хотя ему всего семь лет было, с дочерью Бориса Марьей. Получил помощь от него, да и потом помогал мне Борис неоднократно. Ведаешь, конечно, что поженили мы детей наших, и князь Иван, сын мой, с двенадцати лет стал именоваться, как и я сам, великим князем.
— Знаю я все это, княже,— мягко сказал Мартиниан, ожидая, когда Василий Васильевич перейдет к главному.
— В мире мы с князем Тверским, да вот чую я, что есть у него думы о великом княжении. Издавна князья тверские себя выше московских ставили, издавна соперничали с нами. И хоть ничего не говорит вслух князь Борис Александрович, хоть и почитает меня за старшего, а потихоньку переманивает бояр моих, надеется, видно, собрать их потом... А там, глядишь, и откроется тайный замысел, ибо давно Тверь тягается с Москвой, давно метит занять главное место среди земель русских.
Василий Васильевич говорил твердо, горячо, видно, и вправду всерьез задумался о тверском князе. Отец Мартиниан с душевным удовлетворением отмечал, что исчезли робость и неуверенность великого князя, тверже стал он в словах и делах, больше стал заботиться о сплочении земли Русской. В тайные замыслы тверского кн^зя игумен верил мало, но перебивать государя не стал. Пусть говорит, что на душу легло, пусть облегчит словами боль сердца, что мучает его. Не предавал Василия Борис Тверской, не отказывался от крестного целования, от помощи, от всяческой поддержки. Но вперед смотрит великий князь. И прав... Что замыслил Борис Тверской, трудно сказать, да и кто знает, как повернутся его помыслы позже. Не лучше ли сейчас упредить нежеланное?
Изменился государь, очень изменился в последнее время. И есть в этом малая, совсем крошечная заслуга его, инока Мартиниана. Игумен поймал себя на этой горделивой мысли, смутился внутренне и дал себе наказ: сегодня перед сном вдвое больше обычного прочитать молитву Иисусову и отбить поклонов, дабы дух самомнения не смущал слабую душу.
— Разумно и по-государственному мыслишь, великий княже,— сказал он своим тихим голосом.— Дай тебе Боже и в дальнейшем мудрости и твердости.
Он перекрестил Василия Васильевича и спросил:
— А я, сирый и малый, чем могу помочь в твоих великих сомнениях?
— Просьба нижайшая к тебе в следующем,— ответил князь.— Боярин мой Матвей Плещеев отъехал от меня к великому князю Тверскому. Земли у него там, решил перекинуться ближе к родовому гнезду. А может, и дал ему Борис Тверской какие посулы — мне то неведомо. Знаю только, что боярин умен и нужен мне, в ближайших советниках ходил, все мысли мои знает, да и сам советов дельных немало давал.
— Ты же с князем Тверским сродственник, попроси его завернуть боярина твоего...
— Да, сродственник,— вздохнул великий князь,— Князь Юрий Дмитриевич дядей был, князь Дмитрий Шемяка — братом, князь Василий Косой — тоже брат... А как они за великое княжение боролись, почти четверть века покою не было. Про Бориса же Тверского я тебе уже говорил. Есть, думается, у него тайные замыслы...
— Договоры да грамоты заключи с ним.
— Отец святой, вспомни опять Шемяку. И крест целовал, и докончательные грамоты подписывал, и проклятые грамоты давал... Однако не было числа его изменам.
— Знаю, знаю,— откликнулся Мартиниан,— многое знаю про зависть и злобу людскую, про жестокость и властолюбие. Да боярин твой тебе верой-правдой служил. Может, обидел ты его чем?
— Может, и обидел. Не знаю о том и не ведаю. Одна мысль у меня все время в голове была, одна гвоздем проклятым сидела — про князя Дмитрия Шемяку... А сейчас вот дошло до меня писание монаха тверского, по имени Фома.
— Не тот ли, что с митрополитом Исидором да Симеоном Суздальцем на Флорентийский собор ездил?
— Нет, судя по писанию, не тот... А может, и тот, только скрывается, прячет свое настоящее лицо. Тот ведь боярином тверским был...
— Ведаю... Но и бояре часто становятся монахами...
— Нет, все одно — не похоже... Списали то писание мои люди в Твери и мне доставили. Знаешь, как называется?
— Не ведаю.
— Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче...
— Так что дивного тут? Инок своего князя прославляет... Видимо, любят Бориса Тверского в его землях...
— Любят... Так любят, что называют «государем», «вторым Константином», глаголят «все вселенные похвалы о великом том самодержце», говорят, что «воистину достоин он венца царского»... Бога благодарят, что даровал им нового Ярослава, самодержавного великого князя Бориса Александровича...
Видно, внимательно и не один раз слушал Василий Васильевич чтение сего слова, если запомнил все эти похвалы! А великий князь, продолжая удивлять отца Мартиниана, говорил с внутренней досадой:
— И уж так превозносит инок сей Фома своего господина, что считает, будто «возвысилась слава его в странах далеких, и слышали о сем государе многие люди в разных землях и приходили из тех далеких стран, чтобы увидеть князя Бориса Тверского»...
Пока Василий Васильевич рассказывал троицкому игумену о только появившемся похвальном слове тверскому князю, лицо его заалело пятнами, тонкие пальцы пришли в движение, и голос стал гневным. Сильно, видно, задело великого князя искусное иноческое писание, возмутило душу восхваление тестя. Хотя много справедливого было в том слове: Борис Александрович Тверской славился мудростью и силой. Василий Васильевич понимал это, искал дружбы с тверским князем, заключил с ним союзный и брачный договор. С его помощью утвердился на престоле великокняжеском, под его защитой сел на Москве. А ныне вот опасается своего родственника и союзника, сердится от похвал ему, боится, что появится еще один соперник в великом княжении...
Отец Мартиниан вздохнул про себя: устал он от близости к великому князю, устал от бесконечных княжеских усобиц, от постоянного участия в мирских делах, от столкновений со всеми сатанинскими происками в нашем грешном мире. Однако виду не подал, спросил только:
— Так что, боярин твой, Плещеев, в Твери?
— Наверное.
— И что государю надобно?
— Хочу, чтобы он вернулся ко мне,— резко и прямо сказал великий князь.
— А ну как не захочет?
— Уговори!
— Ты сам-то, государь, звал его?
— Звал. Грамоту с гонцом посылал.
— И что ответил?
— Что желает служить князю Тверскому.
— Если тебе так ответил, что же я услышу?
— Ты его духовник... Тебя послушает,— убежденно сказал Василий Васильевич.— Вспомни, как преподобный Сергий мирил князей, как ездил к Олегу Рязанскому, чтобы склонить его к замирению и союзу с великим князем Дмитрием Донским, как по велению митрополита Алексия закрыл церкви в Нижнем Новгороде, когда суздальский князь Борис захотел утвердить свое княжение ханским ярлыком... Принудил-таки князя к повиновению. Если ты скажешь боярину Матвею, чтобы вернулся ко мне,— он послушается.
— А если нет?
— Именем моим взывай... Скажи, что милостив буду к нему, что ценю его и желаю, чтобы оставался по-прежнему ближним боярином, чтобы помогал мне в великом княжении советами и делами, чтобы служил мне как верный слуга... И еще скажи, что великий князь отметит и вознесет его в своей княжеской милости...
Отец Мартиниан молчал. Многое пронеслось в эти минуты в голове его. Вспомнил, как будучи великим князем Дмитрий Шемяка. обещал рязанскому епископу Ионе, что отпустит детей опального тогда Василия Васильевича и обласкает их, а сам отправил малолетних отпрысков в ссылку к отцу... Вспомнил, как корил владыка Иона князя Дмитрия, как каждый день уговаривал снять с него бремя неправедной клятвы, ибо поклялся Иона боярам, беря детей Василия на свою епитрахиль, что не будет им зла.
Опустился игумен на колени перед святыми образами в своей келье и стал молиться, прося Господа помочь в трудном вопросе... Но не дал Господь никакого знака, предоставил самому Мартиниану решать, выполнить ли просьбу великого князя. Просьба-то была справедливой: умен и честен боярин Матвей Плещеев, нужен он государю на Москве, да вот будут ли почести да богатство у вернувшегося беглеца?
Василий Васильевич терпеливо ждал, пока помолится игумен. Что было в его голове — Бог ведает, но что обида крепко засела в сердце — это точно. Не мог допустить великий князь, чтобы его люди бежали к Борису Тверскому, не мог вынести громогласного восхваления этого князя, не мог спокойно думать о соперничестве с ним. Отец Мартиниан знал все это, но понадеялся, что слово великого князя будет на этот раз твердым, что вернется боярин Плещеев в Москву и будет служить государю с честью.
Вставая с колен, сказал игумен великому князю:
— Будь по-твоему... Сошлюсь с боярином, позову к тебе, передам все твои слова. Надеюсь, послушает меня мой духовный сын.
Василии Васильевич медленно опустился на одно колено и поцеловал сухую жилистую руку троицкого игумена.
Но не сдержал своего слова великий князь... Видно, на этот раз обида помутила его разум, ярость обуяла сердце, гнев затуманил голову. Когда боярин Плещеев вернулся в Москву, Василий Васильевич приказал заковать его в оковы, посадить в подвал глубокий, да разве что голову не велел снять с плеч.
Отец Мартиниан узнал об этом не сразу. Уже теплые ночи сменились утренними холодами, уже прошли все Спасы и готовились опять к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, как в одно туманное серое утро услышал он страшную весть. Игумен шел по монастырскому двору, привычно думая о надвигающихся холодах, о запасах на зиму, о своем большом монастырском хозяйстве, когда упала перед ним на колени боярыня-средолетка, ухватилась за черную рясу, уткнулась лицом в нее и зарыдала так, что и понять было невозможно, чего она хочет.
А когда услышал отец Мартиниан имя Матвея Плещеева, когда понял, почему воет эта крепкая, как спелое яблоко, женщина, когда уяснил почему, глаза ее набухли от слез и щеки покраснели, гнев обуял его душу. В этом гневливом порыве велел он приготовить коня и сел на него, только и успев дать необходимые распоряжения монастырскому келарю Илариону да взяв с собой в путники инока из тех, что покрепче.
Семьдесят верст до Москвы не проскачешь галопом, долгие часы не пребудешь во гневе. Отец Мартиниан быстро устыдился своего яростного порыва. Понял он, что недозволенные иноку страсти омрачили его душу. Тогда слез игумен с коня, и молился в придорожной часовне, и просил Господа простить его за то, что позволил сатанинским чувствам на время овладеть им. Гнев понемногу, не сразу, а постепенно уходил из души, и осталась лишь горькая печаль, такая жгучая, такая едкая, что вытравляла сердце, и оно кровоточило, будто вонзили в него что-то острое, что невозможно вынуть и невыносимо ощущать.
Многое передумал троицкий настоятель за те часы, пока добирался до стольного града. Снова вспомнил преподобного Сергия, и владыку Иону, и свое чувство там, в келье, когда великий князь просил его, а он, Мартиниан, подавлял свое недоверие как постыдное, но все-таки живущее где-то в глубине.
И еще вспомнил святой отец об игумене Киево-Печерского монастыря Феодосии. Тогда тоже был раздор между князьями, братьями по крови, и два брата несправедливо изгнали третьего, Изяслава, старшего среди них, христолюбивого и кроткого. Отказался святой игумен присоединиться к неправедному союзу двоих. Обличал преподобный князя Святослава за беззаконное изгнание старшего брата, через вельмож передавал гневные свои слова и письмо написал. Князь же пришел в ярость и грозил блаженному заточением. Братия умоляла Феодосия не обличать князя, чтобы не оказаться в темнице. Но князь, хоть и гневался страшно, не дерзнул причинить зла преподобному. Но то был Феодосии... Разве может Мартиниан в своей худости сравниться с ним...
Вблизи Москвы коней пустили быстро. То ли от этого бега, то ли от близости княжеского дворца чувства снова взбунтовались, и было ясно, что идти с такой взбудораженной душой к великому князю не надо.
Отец Мартиниан вошел в Успенский собор и встал на колени перед иконостасом. Строгий Судия и Спаситель, изображенный сидящим на престоле, взирал на склоненного инока. Но стоило Мартиниану повернуть голову, как в глаза бросилась давняя, хорошо знакомая икона, которую за гневливый взгляд Спасителя прозвали «Спас Ярое Око». И куда бы ни смотрел Мартиниан, на каких бы образах ни останавливал взор, гневные очи Господа всюду следили за ним. Игумен испугался, что накажет строгий Судия великого князя за его постыдный обман. А троицкий настоятель и сейчас не желал, чтобы московский государь претерпевал какие-то бедствия. Однако хотел инок, чтобы раскаялся Василий Васильевич в совершенном грехе, чтобы изменил то, что произошло, чтобы выпустил из темницы боярина и устроил все так, как обещал в обители преподобного Сергия.
— Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша,— горячо шептал игумен.
И хотя Бог все видит и все знает, отошел игумен Мартиниан от образа строгого Судии, от Его гневных глаз, от Его сурового взора и встал перед иконой Богоматери, перед Ее Владимирским образом, который издавна защищал и охранял людей от бед и напастей.
С Пресвятой Девой не страшно было разговаривать и не стыдно было поведать ей все, что произошло. И не гнева ждал от нее смиренный игумен, а участия. Потому и просил Царицу Небесную вразумить заблудшего сына великого князя земли Русской, дать почувствовать ему всю постыдность и невозможность его поступка, смягчить душу его, предавшуюся гневу и ярости.
— О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Выше еси всех Ангелов и Архангелов, и всея твари честнейши, помощница обидимых, ненадеющихся на деяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех положение и заступление... Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского. Подай, Госпоже, мир и здравие рабам твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи сердечные...
Помолившись так в главном соборном храме, у главной святыни Руси, троицкий игумен направился в палаты к великому князю.
Василий Васильевич не ждал его. Отодвинув в сторону ближних слуг, которые знали настоятеля Сергиевой обители, отец Мартиниан быстро прошел в горницу, где великий князь в одной белой вышитой рубахе и с неповязанными глазами слушал своего дьяка-чтеца. Василий Васильевич был опять бледен и худ, волосы на голове заметно поредели, а лицо с ввалившимися пустыми глазницами казалось страшным, нечеловеческим.
Войдя в покой, монах перекрестился на божницу в углу, затем приблизился вплотную к великому князю и сказал то, что обдумывал дорогой:
— Так-то праведно, господин самодержавный великий князь, научился ты судить? За что ты душу мою грешную продал и послал в ад? Зачем боярина того, призванного мною, моею душою, повелел оковать и слово свое преступил? Да не будет от меня, ничтожного, благословения на тебе и твоем великом княжении.
И повернувшись к двери, быстро ушел из покоев. Снова сев на коня, игумен возвратился к Живо-начальной Троице в Сергиев монастырь.
Правильно говорил многомудрый и велеречивый константинопольский патриарх Иоанн Златоуст, живший в IV веке после Рождества Христова, что царский гнев ярости львов подобен. Не успел троицкий игумен выйти из государевых палат, как вскочил великий князь на ноги, закричал, как низшему слуге своему: «Назад!» Ринулся было к двери, да в слепоте своей побоялся запнуться, упасть... Так и остался посреди палаты с лицом бледным, как у Спасителя на кресте.
То ли не слышал блаженный Мартиниан слова государева, то ли не пожелал вернуться, только его быстрые и легкие шаги мгновенно утихли где-то вдали, а великий князь от гнева сжимал кулаки. Губы его, тонкие, бледные, вытянулись в прямую нить, щеки ввалились, и волосы вдруг упали на лицо, хотя не было ветра в царской палате. Слуги вбежали, и ближние бояре вошли, но никто не смел прикоснуться к правителю и спросить, что было здесь несколько минут назад. А сам великий князь стоял не двигаясь, подобно жене Лота, обращенной в соляной столб за то, что нарушила запрет Господа и оглянулась. Жена Лота посмотрела назад, а Василий Васильевич будто заглянул вперед — и ужаснулся тому, что сделал и сказал чернец, которому он верил и которого в глубине души боялся, ибо знал, что слышит Господь молитвы его. Ужаснулся тому, что снял монах свое святое благословение с него, великого князя, и с его великого княжения. Будто пал святой покров, который защищал Василия с того времени, как ходил он из Вологды в Кириллов и Ферапонтов монастыри, с тех самых дней, как взяли на себя его грехи два игумена — Трифон и Мартиниан. Повернули они тогда мысли опального князя, большую правду ощутил он в словах иноков. Крепко поверил, что благословение священников — это благословение Божие, что молитвы этих чернецов будут услышаны Спасителем и Его Пресвятой Матерью. С тех пор о духовной поддержкой блаженных отцов, которые теперь игуменствовали рядом с великим князем, с невидимой защитой преподобных Кирилла Белозерского и самого Сергия Радонежского вершил свои дела Василий II, внук Дмитрия Донского. По молениям своих угодников Господь посылал ему удачу в делах правления. А страдания, которые принял несправедливо согнанный с великого стола князь, только поднимали и возвышали его душу, укрепляя веру в справедливость борьбы с беспокойным и зловредным Шемякой.
Теперь вот что сделал проклятый чернец! Не убоялся ни казни, ни заточения. Вошел незваный, словно ветер ворвался, переворошил все в душе и покинул государев дворец, словно не был подданным великого князя, словно явился из другой страны, где был у него другой господин, которому он должен повиноваться. И те первые мысли, которые мелькнули в голове Василия, когда он крикнул игумену, точно собаке, «назад!», те мысли, что взбунтовали его кровь и заставили щеки покраснеть от гнева, те гневные мысли были о каре, которая должна постигнуть непочтительного ослушника.
Однако время шло, и дерзкие, жестокие, гневливые помыслы стали постепенно исчезать во тьме греховной души князя. Черный смерч злонамеренных побуждений уносился прочь, и душа словно освобождалась от пут, сковавших все благие чувства, но выпустивших на волю сатанинские помышления.
Не обращая внимания ни на слуг, ни на ближних бояр, Василий Васильевич сделал несколько шагов к красному углу палаты, где мерцали в неярком пламени лампад начищенные до блеска оклады его, государевых, домовых икон. Слепец опустился здесь на колени, не наткнувшись ни на что, ибо давно уже знал каждый вершок в своем доме и без слуги находил нужные веши, которые лежали всегда на своих местах. Иконы он тоже помнил вое или думал, что помнил: и Нерукотворный образ Спаса, что стоял в середине, и Богородицу Одигитрию с Ее предвечным Младенцем, смотрящим прямо на молящихся, и Николая Чудотворца, епископа далеких Мир Ликийских, с красными крестами на аналаве, лежащем на плечах и спускающемся вниз спереди и сзади. Другие свои святыни князь подзабыл, но эти три образа были всегда перед глазами, вернее, перед его внутренним взором, словно и не прошло столько долгих лет с тех пор, как очи его перестали видеть белый свет.
Великий князь опустился на колени и в низком земном поклоне коснулся пола лбом, замерев так на долгое время. Старший боярин махнул рукой, и все сбежавшиеся вместе со слугами, тихо ступая по ковру, вышли из палаты. А Василий Васильевич, простершись пред святыми иконами, воздал хвалу Спасителю за то, что удержал от поспешного решения и угасил кровавый пожар, вспыхнувший было в душе; за то, что остудил огонь, полыхавший в груди, утихомирил страсти и вернул на путь кротости и смиренномудрия. Распрямившись и повернув лицо к образам святых, благодарил князь великого и мудрого Жизнедателя за то, что в первые минуты не приказал задержать дерзкого чернеца, за то, что не сорвалось с уст то слово, которое так трудно было бы потом исправить. Еще думал он о суде Божием и о том, как он сам предстанет перед ангелом, в руках которого будут весы для злых и добрых дел.
— Хоть и царскую я принял власть и могу судить самовластно,— тихо шептал великий князь,— но пред очами Божьими весь наг и обнажен: ведь судит Он и царя, как простого человека.
И понял государь Василий II, что прав, прав был дерзкий чернец, пришедший, чтобы обличить его, и не только обличил, но и запрет наложил... Стоя на коленях, сложив руки на груди, великий князь взывал:
— Боже великий и милосердный, прости меня, ибо виновен я перед Тобой. Согрешил я, нарушил слово свое, заковал боярина Плещеева в железы и ввел во грех игумена из обители Живоначальной Троицы, что основал преподобный Сергий. Устроил он обитель свою во славу Пресвятой Троицы, чтобы воззрением на нее побеждались рознь и страх мира сего... И ты, великий радонежский чудотворец, прости меня, грешного, ибо раскаяние мое искренне и велю я исправить неправоту свою...
Долго еще молился великий князь пред святыми иконами, долго казнил себя за грехи свои. А когда встал, позвал ближнего боярина и приказал тотчас выпустить опального Плещеева из железных оков, хорошо накормить, дать одежду с княжеского плеча и снарядить лошадей, ибо захочет плененный поскорее добраться до родного дома. И еще велел государь собрать наутро ближних бояр и приготовить лошадей к дальней поездке, а куда ехать изволит — не сказал, ибо какие-то тайные мысли были у него на сей счет.
Утром в большой палате великокняжеского дворца в Кремле собрались ближние бояре и князья. Василий Васильевич, убранный по-парадному, с посохом в руке сидел на резном золоченом стуле. Рядом с ним стоял старший сын Иван, тоже величавшийся великим князем, ибо был он соправителем отца и участником всех важных государственных дел. Ни одно решение не принималось теперь без слова этого не по годам мудрого тринадцатилетнею отрока.
Бояре в высоких шапках и длинных кафтанах чинно сидели на покрытых красным сукном лавках, расставленных вдоль стен. Были они похожи друг на друга оттого, что пол-лица скрывали бороды — седые, черные или русые, длинные или короткие, широкие, узкие или торчащие клином вперед. Да великий князь все равно не видел их. Он давно уже научился распознавать своих подданных по голосу, по походке, по запаху. Недаром говорят, что слепцы видят ушами да носом.
Василий Васильевич стукнул жезлом об пол, и тотчас установилась такая тишина, что стало слышно, как на дворе заржала лошадь. Великий князь сдвинул брови и начал в горести и с обидой:
— Бояре! Все слышали о том, как явился сюда вчера троицкий игумен Мартиниан?
— Слышали,— прошелестело из разных углов палаты.
— Все знают, что было далее?!
Шелест голосов был недружен: отвечали вразнобой. Кто говорил «знаем», кто — «не ведаем»...
Василий Васильевич резко встал, снова стукнул жезлом об пол и заговорил громко и гневливо:
— Бояре, посмотрите на этого чернеца болотного! Что сделал?! Придя ко мне, напрасно обличил и Божие благословение снял, и без великого княжения меня оставил!
Бояре с тоской и недоумением глядели на великого князя. Хорошо, что глаза у того незрячие, не видит правитель, как смущены его слуги, не может заглянуть в глаза каждому, не в силах прочитать тайные мысли, что роятся в седовласых головах. И что отвечать великому князю? Если прогневался на игумена, задержал бы его в Кремле... Посадил в подвал, под замок... А то ведь отпустил к Живоначальной Троице и вдогонку никого не послал. Может, не сильно гневается, если отпустил с миром? Да и говорят ближние слуги, что ни словом не ответил великий князь на дерзостную выходку игумена, крикнул вроде что-то, да никто и не разобрал, что именно... И что сейчас удумал государь? Зачем собрал всех? Если хочет лишить Мартиниана игуменства и сослать обратно на север — так нужен освященный собор. А здесь духовенства маловато. Митрополит Иона да кремлевские архиереи, а епископов нет никаких. Да и не успели бы они в Москву. Хотя если вечером князь послал бы скорых гонцов, кое-кто мог приехать. Вот и теребили бояре бороды, смотрели в пол, бросали косые взгляды друг на друга и на великого князя, не зная, чего от него ожидать.
Молчание было долгим, томительным. Все уж стали ждать бури после столь продолжительного затишья, но великий князь внезапно потерял свой грозный вид, брови распрямились и лицо разгладилось. Он упал на колени возле своего трона и протянул руки вперед, по-прежнему сжимая в правой длани государев посох и опираясь на него.
— Виноват я, виноват я, бояре, перед Богом и перед тем чернецом! Забыл во гневе слово, данное ему, причинил зло боярину Плещееву, что отбежал от меня к великому князю Тверскому. Просил я игумена троицкого вернуть боярина обратно, обещал милость и покровительство, и сам же слово свое порушил! Заточил боярина в оковы и причинил ему зло... И теперь вот решил я, бояре: поедем к Живоначальной Троице, та нас рассудит! Пойдем к преподобному Сергию и к игумену тому Мартиниану, помолимся вместе, попросим прощения... Может, и смилостивится Господь наш, и его слуга блаженный Мартиниан, и все великие троицкие чудотворцы. И простит нас Бог за грехи наши тяжкие!
Великий князь опустил голову и стоял на коленях перед всеми, прекрасный в смирении своем. Сын Иван подошел к Государю, помог подняться. Бояре зашумели, загудели, и в гуле том, тихом, дружном, добром, слышались лишь отдельные слова:
— Велик и в горести государь наш!
— Премудр и рассудителен!
— Смиренен и богобоязнен!
Стали дружно собираться в Троицкую обитель, но прежде чем тронуться в путь, Василий Васильевич продиктовал дьяку свой указ: выделить боярину вотчину из своих земель, и жалование определить, и приблизить к себе. Хотя разговор с боярином решил отложить до возвращения.
Говорят, что худые вести быстрее добрых несутся. Но на этот раз хорошая новость неслась впереди быстрых княжеских коней, будто бурный весенний поток, шумя, радуясь и оповещая всех на пути о своем приближении. Да и как было не нестись ей, если сам боярин Плещеев скакал без остановки в Сергееву обитель. Конь под ним был добрый, с княжеской конюшни, и торопился счастливец пасть в ноги игумену, спасшему его. Рад был боярин внезапному освобождению, а все-таки опасался коварства: а ну как великий князь снова передумает, а ну как пошлет вдогонку слуг и велит перехватить по дороге в Троицу, вдруг устроит засаду у монастыря, в отместку дерзкому игумену...
Но ничего страшного не произошло. К окончанию обедни боярин был в монастыре, и суровый игумен Мартиниан встретил его в своей келье. После рассказа боярина подобрело лицо чернеца, разгладились морщины на челе и возблагодарил он, как и положено, Господа Бога, и Пресвятую Деву Марию, и Сергия-чудотворца за то, что свершилось все так, как свершилось, и не дал Спаситель произойти тому злу, что задумал сатана с попустительства Его.
А гонцы один за другим прибывали в монастырь и сообщали о движении великого князя и бояр. Вот он выехал из ворот града, вот проехал Крестовскую заставу, вот миновал село Алексеевское, а за ним — Тайнинское... Отдыхал в Мытищах у громового колодца с лучшей водой, открывшейся после удара молнии; переехал реку Учу у села Пушкино, а затем речку Ворю и зашел в Хотьковский монастырь, где отслужил малый молебен у раки родителей преподобного Сергия.
И вот уже Василий Васильевич приближается к Троице. Сумерки окутывали монастырский двор. Закат был красный, тревожный, с длинными прямыми темными облаками, иногда перекрывавшими огненное светило. Ударили колокола в обители, игумен с братией вышли навстречу великому князю за монастырские ворота. Ждал игумен первых слов своего духовного чада, ждал искреннего раскаяния и не ошибся: пал великий слепец на колени, склонил голову и сказал громко, чтобы слышали все бояре и все иноки, чинной черной толпой стоящие за своим настоятелем:
— Согрешил я, святой отец. Прости грех мой тяжкий, даруй мне свое благословение и пусть будет оно со мною до конца дней моих, и на детях моих, и на моей великом княжении.
Возложил игумен Мартиниан руки свои на склоненную голову великого князя и от всей души со слезами на глазах благословил его. Потом сам стал на колени перед князем и просил у него прощения о дерзновении своем.
В храме Живоначальной Троицы отслужили молебен, особенно умиленно лобызали раку с мощами преподобного Сергия и просили даровать мир и покой земле Русской, и стольному граду Москве, и обители Троицкой, и великому князю.
«А истинный христолюбец князь Василий,— говорит древнейший летописец,— накормив братию и монастырь одарив, ушел в радости на стол свой в славный град Москву благословен и прощен навеки».
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)
- Крошка Ру
- полковник

- Сообщения: 2297
- Зарегистрирован: 26 июн 2008, 22:04
- Пол: жен.
- Цель пребывания на форуме*: Хочу помогать тем, кто думает о самоубийстве
Re: Татьяна Еремина "Игумен с севера"
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
(Из русских летописей)
Пал, пал Царьград, великий город святого Константина, утвердившего христианство на востоке. Более 1120 лет простоял он, прекрасный и величественный, оплот православия, пристанище патриархов и христианских цесарей. «Новым Римом» назвал его Константин Великий, а греки именовали «царственным городом».
Много было чудес в именитом граде. И великая София Константинопольская, преславная и огромная церковь в честь Премудрости Божией, и «пре-чудный столп багряный» — колонна из розового порфира, которую три года везли морем из Рима, а потом еще год — от моря до площади... Установили на ней сначала изваяние греческого бога Аполлона, а потом, с утверждением христианства, заменили Животворящим Крестом. Много было сооружено в Царьграде дивных святых храмов, много прекрасных зданий, много возникло славных обителей. И каждый цесарь или цесарица, царствовавшие после Константина Великого, стремились совершить какое-нибудь славное деяние во имя процветания града: одни подвизались в отыскании и обретении орудий страстей Господних или ризы и пояса Пречистой Богоматери, другие — святых мощей и божественных икон, третьи — в создании монастырей и храмов Божиих. Здесь хранился Нерукотворный образ Иисуса Христа из Эдессы, здесь находилась чудотворная икона Богоматери Одигитрии... И так наполнился город творениями преславными и дивными, что блаженный Андрей Критский дивился, говоря: «Поистине город этот непостижим ни слову, ни разуму».
Теперь великий город оказался во власти янычар, сиречь турок, грозных и беспощадных врагов христианства. Правильно написано: «Злодеяния и беззакония разрушат престолы могучих!» Так и царственный город, которому долго покровительствовала сама Богородица, из-за бесчисленных согрешений и беззаконий лишился щедрот и благодеяний Пречистой Богоматери. По грехам своим, от грубости сердца, нерадивости и безумия, которые гневили Господа Бога и Пресвятую Его Мать, лишились византийские цесари и подданные чести и славы. Утратила столица могущество, обнищал народ, в уничижение впал град и стал точно шалаш в саду. И тогда властвовавший над турками безбожный Магомет поспешил собрать множество войска на суше и на море, неожиданно подступил к городу и окружил его большой силой.
Цесарь Константин, патриарх, архиепископы и весь церковный клир, толпы женщин и детей ходили по церквам Божиим и возглашали молитвы. Плача и рыдая, каялись они, обращались к Господу: «Мы, несчастные, согрешали и беззаконничали и многократно гневили и озлобляли Тебя, Боже, забы-ьая Твои великие благодеяния и попирая Твои заветы... Все, что навел Ты на нас и на город Твой святой, по справедливому и истинному суду свершил Ты за грехи наши... Но... мы — создание Твое и творение и дело рук Твоих,— не предай же нас навеки врагам Твоим, и не разори богатства Твоего, и не лиши нас милости Твоей, и пощади нас в час этот...»
Но не сжалился суровый Господь над грешниками, пал град Константина Великого, пал после долгой осады, после изнурительных боев, после многочисленных жертв.
В великостольной Москве появились свидетели этого ужасного события. Великий князь Василий II слушал рассказы и торговцев, и паломников, и простых людей, волей случая оказавшихся в Византии в эти черные дни. Говорили они, что убитые с обеих сторон, словно снопы, падали с забрал города, и кровь их ручьями стекала по стенам. От воплей и криков сражающихся людей, от плача и рыдания жителей, от звона колоколов, от стука оружия и сверкания его казалось, что весь город содрогается до основания. И наполнились рвы доверху трупами человеческими, так что чрез них карабкались турки, как по ступеням... Рвы и низины наполнились кровью, настолько ожесточенно и яростно бились противники. Звонили колокола, шествовали крестные ходы со святыми иконами, денно и нощно молили горожане заступницу Приснодеву Марию, но снова и снова подходили безбожные к городским стенам, снова день за днем бились в кровавой сече защитники города и не могли одолеть нападавших...
Патриарх и вельможи уговаривали цесаря уехать из города, попытаться собрать силу на стороне, но Константин XI отвечал им: «Хвалю и ценю совет ваш и знаю, что дан он мне на мое же благо... Но как же я поступлю таким образом и покину священнослужителей, и церкви Божий, и царство, и всех людей? И что обо мне скажет весь мир?! Нет, господа мои, нет, но да умру здесь с вами».
И сбылось знамение, которое было еще тогда, когда строился великий град, когда цесарь Константин Великий с матерью своей Еленой, и с женой, и с детьми, и братьями отправился в небольшое селение Византии и увидел на том месте семь холмов и много заливов морских. Когда же было подготовлено место, собрал цесарь всех вельмож, и начали они обсуждать, где стоять стенам, где башням, где воротам городским.
Тогда вдруг показалась из норы змея и поползла по земле, но тут ниспал с поднебесья орел, схватил змею и взмыл ввысь, а змея стала обвиваться вокруг орла. Цесарь и все люди смотрели на странное зрелище. Орел на недолгое время скрылся из глаз, но, показавшись снова, стал снижаться и упал со змеей на то же самое место, ибо одолела его змея. Люди же, подбежав, змею убили, а орла у нее отняли. Был цесарь в великом страхе. Созвав книгочеев и мудрецов, рассказал он об этом знамении. Они же, поразмыслив, объявили цесарю: «Это место «Седьмохолмый» назовется, и прославится, и возвеличится во всем мире больше всех городов, но поскольку встанет город между двух морей и будут бить его волны морские, то суждено ему поколебаться. Орел же — символ христианский, а змея — символ мусульманский, и раз змея одолела орла, то этим возвещено, что мусульманство одолеет христианство. Но так как христиане змею убили, а орла отняли, явлено этим, что напоследок снова христиане одолеют мусульман, и Седьмохолмым овладеют, и в нем воцарятся».
По велению Константина записано было это предание, и знали о нем не только в Византии, но и во многих других странах. Теперь, когда сбылось знамение, вспоминали его и в русских княжествах. Передавали рассказы о последних днях великого города и дивились отваге последнего цесаря, который, рыча аки лев, рубил беспощадно неверных. Турки же нападали на него, и всякое оружие метали в него, и стрелы бесчисленные в него устремлялись, но до поры оружие все и стрелы попусту падали и, пролетая мимо, не задевали его.
В двадцать первый день мая явилось в городе страшное знамение: озарилось в ночь все светом, и стражи, думая, что это турки подожгли город, вскричали громко. Когда же собралось множество людей, то увидели, что в куполе великой церкви Премудрости Божией из окон взметнулось огромное пламя, и долгое время объят был огнем купол церковный. Потом собралось все пламя воедино, и воссиял свет неописуемый, и поднялся к небу. Когда же огонь этот достиг небес, отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова затворились. И сказал тогда патриарх цесарю, что свет неизреченный, который находился в церкви Премудрости Божией и который сопричастен был прежним святителям и архиереям вселенским, в эту ночь отошел на небо. А это знаменует, что милость Божия и щедроты Его покинули град, и хочет Бог предать город врагам. Услышав сей рассказ, цесарь пал на землю, словно мертвый, и пролежал безгласный долгое время, а когда очнулся, то приказал хранить знамение в тайне, дабы не впали люди в отчаяние и не ослабели в деяниях своих.
Снова уговоривали Константина покинуть город, но отвечал он: «Если Господь Бог наш соизволил так, где скроемся от гнева Его?» Снова говорил цесарь, что погибнет вместе с защитниками града.
И настал судный час. Шла битва в сумраке, ибо стрелы затмевали свет. Ранили храброго защитника города Зустунею, который предводительствовал отрядом наемников из далекого города Генуи. Много раз цесарь отбивал атаки неверных, когда они вот-вот были готовы ворваться в ворота. Но если бы даже и горами он мог двигать, все равно Божью волю не превозмочь. «Если же,— говорится,— не Господь воздвигает храм, то всуе трудятся строящие его».
Окаянный же Магомет, снова и снова собирая свои полки, послал их по всем улицам и ко всем воротам в поисках цесаря. Цесарь же, словно услышав веление Божие, отправился в великую церковь и пал на землю, прося Бога о милости и прощении за грехи. Попрощался он с патриархом, и со всем причтом, и с царицей. Поклонившись на все стороны, вышел из церкви... и одно только промолвил: «Кто хочет пострадать за Божий церкви и за православную веру, пусть пойдет со мной!» Сев на коня, поскакал Константин к Золотым воротам, рассчитывая встретить там главного безбожного воителя. Увидел он в воротах множество турок, подстерегавших его, и, перебив их всех, устремился в ворота, но не смог проехать из-за множества трупов. Снова двинулись навстречу турки в бесчисленном множестве, так что бились с ними до самой ночи. Пострадал благоверный царь Константин XI за Божий церкви и за православную веру, убив своей рукой, как сказали уцелевшие, более шестисот турок. Свершилось предсказание: Константином создан город и при Константине погиб.
О, горе тебе, Седьмохолмый, что поганые тобой обладают! Явил Бог свой гнев на тебя и предал тебя в руки врагам твоим! И кто об этом не восплачет или не зарыдает!
Но если свершилось все предсказанное о городе том, то свершится и последующее. Предсказано было мудрецами, что восстанет Седьмохолмый, что сбросит он оковы янычарские, что отринет безбожную веру мусульманскую и вновь Всещедрый и Всеблагий Бог благословит обновление православной и непорочной христианской веры.
Вот так рассказывали многие люди, прибывшие с востока в русские земли, и слушали их и великий князь, и митрополит Иона, и епископы, и архиереи, и игумены... Скорбели все о великом Царьграде, молились за упокой души цесаря и его подданных, погибших вместе с ним, горевали о разрушенных церквах и монастырях, об оскверненных святынях и разоренных сокровищницах.
Но вместе с тем зарождалась, вынашивалась в темных монастырских кельях, в светлых епископских палатах, в просторных залах митрополичьего двора мысль о том, что богоспасаемый град Москва стал отныне оплотом православной веры в мире. И скоро, скоро уж родятся слова о том, что Москва — это «третий Рим». Два Рима пали, а третий стоит крепко, и набирает силу, а четвертому Риму не бывать.
В это время поселился в Троицком монастыре, в обители преподобного Сергия, некий Нестор Искандер, что в переводе означает — Александр. Игумен Мартиниан отвел ему келью посветлей, чтобы описал пришедший для памяти потомков все, что видел в Константинополе. И он трудился, вспоминая основание города, его великие святыни, различные знамения, возвышение града и его падение. А когда закончил повествование, написал «многогрешный и беззаконный Нестор Искандер» несколько строк о себе. Рассказал о том, что измлада был пленен и обрезан, долгое время страдал в ратных походах, спасаясь так или иначе, чтобы не умереть в окаянной мусульманской вере. В этом великом и страшном деле ухитрялся он, когда под видом болезни, когда скрываясь, когда с помощью приятелей своих, изыскать время все рассмотреть и обо всем разузнать. Записывал Нестор подробно день за днем обо всем, что совершалось вне града у турок. А затем, когда попущением Божиим турки вошли в город, со временем разузнал Нестор и собрал от надежных и великих мужей сведения о том, что делалось во граде во время борьбы с безбожными. И вот изложил все вкратце и христианам передал на память о преужасном этом и предивном произволении Божием. А закончил он свой труд словами такими: «Всемогущая и Животворящая Троица да приобщит меня снова к стаду своему и к овцам пажити своей, чтобы и я прославил и возблагодарил великолепное и превысокое имя ее. Аминь».
...Русские земли жили своими заботами. В 1454 году скончался архиепископ Ростовский и Ярославский Ефрем, и в этот же год вместо него был поставлен епископом Ростовским Феодосии Бывальцев.
Великий князь занимался своими государственными делами. Старался прекратить смуту, наказать предателей, держать мир с Литовским княжеством, отражать набеги татар.
Уже не было на свете беспокойного братанича Дмитрия Шемяки, и стол его удельного княжества город Галич перешел в руки Василия Васильевича. Однако оставался еще Иван Можайский, правая рука Шемяки, злодей и разбойник, пленивший великого князя в Троице-Сергиевом монастыре.
«За многое неисправление» князя Ивана Андреевича пошел великий князь к Можайску. Князь же Иван, услышав об этом, испугался. Мучимый своей нечистой совестью и гонимый Божиим гневом, покинул он город свой и побежал с супругой и чадами в Литву. Великий же князь пришел к Можайску, и все горожане предались ему без всякого сопротивления. Посадил Василий в городе своих наместников и сам возвратился к Москве, повсюду мир утверждая и о всех благодарение Богу воздавая. Тогда в державной Русской земле упразднилась всякая крамола и враждование. С того времени меньшие князья были послушны старейшим, а те, Богом укрепляемые, со славой и честью державствовали. И хотя безбожные варвары-татары много раз покушались пленить Русскую землю и обложить христианство, но вседержи-тельная десница Премилостивого Бога всегда вставала у них на пути и посрамляла их, и всегда бывали они побеждаемы.
(Из русских летописей)
Пал, пал Царьград, великий город святого Константина, утвердившего христианство на востоке. Более 1120 лет простоял он, прекрасный и величественный, оплот православия, пристанище патриархов и христианских цесарей. «Новым Римом» назвал его Константин Великий, а греки именовали «царственным городом».
Много было чудес в именитом граде. И великая София Константинопольская, преславная и огромная церковь в честь Премудрости Божией, и «пре-чудный столп багряный» — колонна из розового порфира, которую три года везли морем из Рима, а потом еще год — от моря до площади... Установили на ней сначала изваяние греческого бога Аполлона, а потом, с утверждением христианства, заменили Животворящим Крестом. Много было сооружено в Царьграде дивных святых храмов, много прекрасных зданий, много возникло славных обителей. И каждый цесарь или цесарица, царствовавшие после Константина Великого, стремились совершить какое-нибудь славное деяние во имя процветания града: одни подвизались в отыскании и обретении орудий страстей Господних или ризы и пояса Пречистой Богоматери, другие — святых мощей и божественных икон, третьи — в создании монастырей и храмов Божиих. Здесь хранился Нерукотворный образ Иисуса Христа из Эдессы, здесь находилась чудотворная икона Богоматери Одигитрии... И так наполнился город творениями преславными и дивными, что блаженный Андрей Критский дивился, говоря: «Поистине город этот непостижим ни слову, ни разуму».
Теперь великий город оказался во власти янычар, сиречь турок, грозных и беспощадных врагов христианства. Правильно написано: «Злодеяния и беззакония разрушат престолы могучих!» Так и царственный город, которому долго покровительствовала сама Богородица, из-за бесчисленных согрешений и беззаконий лишился щедрот и благодеяний Пречистой Богоматери. По грехам своим, от грубости сердца, нерадивости и безумия, которые гневили Господа Бога и Пресвятую Его Мать, лишились византийские цесари и подданные чести и славы. Утратила столица могущество, обнищал народ, в уничижение впал град и стал точно шалаш в саду. И тогда властвовавший над турками безбожный Магомет поспешил собрать множество войска на суше и на море, неожиданно подступил к городу и окружил его большой силой.
Цесарь Константин, патриарх, архиепископы и весь церковный клир, толпы женщин и детей ходили по церквам Божиим и возглашали молитвы. Плача и рыдая, каялись они, обращались к Господу: «Мы, несчастные, согрешали и беззаконничали и многократно гневили и озлобляли Тебя, Боже, забы-ьая Твои великие благодеяния и попирая Твои заветы... Все, что навел Ты на нас и на город Твой святой, по справедливому и истинному суду свершил Ты за грехи наши... Но... мы — создание Твое и творение и дело рук Твоих,— не предай же нас навеки врагам Твоим, и не разори богатства Твоего, и не лиши нас милости Твоей, и пощади нас в час этот...»
Но не сжалился суровый Господь над грешниками, пал град Константина Великого, пал после долгой осады, после изнурительных боев, после многочисленных жертв.
В великостольной Москве появились свидетели этого ужасного события. Великий князь Василий II слушал рассказы и торговцев, и паломников, и простых людей, волей случая оказавшихся в Византии в эти черные дни. Говорили они, что убитые с обеих сторон, словно снопы, падали с забрал города, и кровь их ручьями стекала по стенам. От воплей и криков сражающихся людей, от плача и рыдания жителей, от звона колоколов, от стука оружия и сверкания его казалось, что весь город содрогается до основания. И наполнились рвы доверху трупами человеческими, так что чрез них карабкались турки, как по ступеням... Рвы и низины наполнились кровью, настолько ожесточенно и яростно бились противники. Звонили колокола, шествовали крестные ходы со святыми иконами, денно и нощно молили горожане заступницу Приснодеву Марию, но снова и снова подходили безбожные к городским стенам, снова день за днем бились в кровавой сече защитники города и не могли одолеть нападавших...
Патриарх и вельможи уговаривали цесаря уехать из города, попытаться собрать силу на стороне, но Константин XI отвечал им: «Хвалю и ценю совет ваш и знаю, что дан он мне на мое же благо... Но как же я поступлю таким образом и покину священнослужителей, и церкви Божий, и царство, и всех людей? И что обо мне скажет весь мир?! Нет, господа мои, нет, но да умру здесь с вами».
И сбылось знамение, которое было еще тогда, когда строился великий град, когда цесарь Константин Великий с матерью своей Еленой, и с женой, и с детьми, и братьями отправился в небольшое селение Византии и увидел на том месте семь холмов и много заливов морских. Когда же было подготовлено место, собрал цесарь всех вельмож, и начали они обсуждать, где стоять стенам, где башням, где воротам городским.
Тогда вдруг показалась из норы змея и поползла по земле, но тут ниспал с поднебесья орел, схватил змею и взмыл ввысь, а змея стала обвиваться вокруг орла. Цесарь и все люди смотрели на странное зрелище. Орел на недолгое время скрылся из глаз, но, показавшись снова, стал снижаться и упал со змеей на то же самое место, ибо одолела его змея. Люди же, подбежав, змею убили, а орла у нее отняли. Был цесарь в великом страхе. Созвав книгочеев и мудрецов, рассказал он об этом знамении. Они же, поразмыслив, объявили цесарю: «Это место «Седьмохолмый» назовется, и прославится, и возвеличится во всем мире больше всех городов, но поскольку встанет город между двух морей и будут бить его волны морские, то суждено ему поколебаться. Орел же — символ христианский, а змея — символ мусульманский, и раз змея одолела орла, то этим возвещено, что мусульманство одолеет христианство. Но так как христиане змею убили, а орла отняли, явлено этим, что напоследок снова христиане одолеют мусульман, и Седьмохолмым овладеют, и в нем воцарятся».
По велению Константина записано было это предание, и знали о нем не только в Византии, но и во многих других странах. Теперь, когда сбылось знамение, вспоминали его и в русских княжествах. Передавали рассказы о последних днях великого города и дивились отваге последнего цесаря, который, рыча аки лев, рубил беспощадно неверных. Турки же нападали на него, и всякое оружие метали в него, и стрелы бесчисленные в него устремлялись, но до поры оружие все и стрелы попусту падали и, пролетая мимо, не задевали его.
В двадцать первый день мая явилось в городе страшное знамение: озарилось в ночь все светом, и стражи, думая, что это турки подожгли город, вскричали громко. Когда же собралось множество людей, то увидели, что в куполе великой церкви Премудрости Божией из окон взметнулось огромное пламя, и долгое время объят был огнем купол церковный. Потом собралось все пламя воедино, и воссиял свет неописуемый, и поднялся к небу. Когда же огонь этот достиг небес, отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова затворились. И сказал тогда патриарх цесарю, что свет неизреченный, который находился в церкви Премудрости Божией и который сопричастен был прежним святителям и архиереям вселенским, в эту ночь отошел на небо. А это знаменует, что милость Божия и щедроты Его покинули град, и хочет Бог предать город врагам. Услышав сей рассказ, цесарь пал на землю, словно мертвый, и пролежал безгласный долгое время, а когда очнулся, то приказал хранить знамение в тайне, дабы не впали люди в отчаяние и не ослабели в деяниях своих.
Снова уговоривали Константина покинуть город, но отвечал он: «Если Господь Бог наш соизволил так, где скроемся от гнева Его?» Снова говорил цесарь, что погибнет вместе с защитниками града.
И настал судный час. Шла битва в сумраке, ибо стрелы затмевали свет. Ранили храброго защитника города Зустунею, который предводительствовал отрядом наемников из далекого города Генуи. Много раз цесарь отбивал атаки неверных, когда они вот-вот были готовы ворваться в ворота. Но если бы даже и горами он мог двигать, все равно Божью волю не превозмочь. «Если же,— говорится,— не Господь воздвигает храм, то всуе трудятся строящие его».
Окаянный же Магомет, снова и снова собирая свои полки, послал их по всем улицам и ко всем воротам в поисках цесаря. Цесарь же, словно услышав веление Божие, отправился в великую церковь и пал на землю, прося Бога о милости и прощении за грехи. Попрощался он с патриархом, и со всем причтом, и с царицей. Поклонившись на все стороны, вышел из церкви... и одно только промолвил: «Кто хочет пострадать за Божий церкви и за православную веру, пусть пойдет со мной!» Сев на коня, поскакал Константин к Золотым воротам, рассчитывая встретить там главного безбожного воителя. Увидел он в воротах множество турок, подстерегавших его, и, перебив их всех, устремился в ворота, но не смог проехать из-за множества трупов. Снова двинулись навстречу турки в бесчисленном множестве, так что бились с ними до самой ночи. Пострадал благоверный царь Константин XI за Божий церкви и за православную веру, убив своей рукой, как сказали уцелевшие, более шестисот турок. Свершилось предсказание: Константином создан город и при Константине погиб.
О, горе тебе, Седьмохолмый, что поганые тобой обладают! Явил Бог свой гнев на тебя и предал тебя в руки врагам твоим! И кто об этом не восплачет или не зарыдает!
Но если свершилось все предсказанное о городе том, то свершится и последующее. Предсказано было мудрецами, что восстанет Седьмохолмый, что сбросит он оковы янычарские, что отринет безбожную веру мусульманскую и вновь Всещедрый и Всеблагий Бог благословит обновление православной и непорочной христианской веры.
Вот так рассказывали многие люди, прибывшие с востока в русские земли, и слушали их и великий князь, и митрополит Иона, и епископы, и архиереи, и игумены... Скорбели все о великом Царьграде, молились за упокой души цесаря и его подданных, погибших вместе с ним, горевали о разрушенных церквах и монастырях, об оскверненных святынях и разоренных сокровищницах.
Но вместе с тем зарождалась, вынашивалась в темных монастырских кельях, в светлых епископских палатах, в просторных залах митрополичьего двора мысль о том, что богоспасаемый град Москва стал отныне оплотом православной веры в мире. И скоро, скоро уж родятся слова о том, что Москва — это «третий Рим». Два Рима пали, а третий стоит крепко, и набирает силу, а четвертому Риму не бывать.
В это время поселился в Троицком монастыре, в обители преподобного Сергия, некий Нестор Искандер, что в переводе означает — Александр. Игумен Мартиниан отвел ему келью посветлей, чтобы описал пришедший для памяти потомков все, что видел в Константинополе. И он трудился, вспоминая основание города, его великие святыни, различные знамения, возвышение града и его падение. А когда закончил повествование, написал «многогрешный и беззаконный Нестор Искандер» несколько строк о себе. Рассказал о том, что измлада был пленен и обрезан, долгое время страдал в ратных походах, спасаясь так или иначе, чтобы не умереть в окаянной мусульманской вере. В этом великом и страшном деле ухитрялся он, когда под видом болезни, когда скрываясь, когда с помощью приятелей своих, изыскать время все рассмотреть и обо всем разузнать. Записывал Нестор подробно день за днем обо всем, что совершалось вне града у турок. А затем, когда попущением Божиим турки вошли в город, со временем разузнал Нестор и собрал от надежных и великих мужей сведения о том, что делалось во граде во время борьбы с безбожными. И вот изложил все вкратце и христианам передал на память о преужасном этом и предивном произволении Божием. А закончил он свой труд словами такими: «Всемогущая и Животворящая Троица да приобщит меня снова к стаду своему и к овцам пажити своей, чтобы и я прославил и возблагодарил великолепное и превысокое имя ее. Аминь».
...Русские земли жили своими заботами. В 1454 году скончался архиепископ Ростовский и Ярославский Ефрем, и в этот же год вместо него был поставлен епископом Ростовским Феодосии Бывальцев.
Великий князь занимался своими государственными делами. Старался прекратить смуту, наказать предателей, держать мир с Литовским княжеством, отражать набеги татар.
Уже не было на свете беспокойного братанича Дмитрия Шемяки, и стол его удельного княжества город Галич перешел в руки Василия Васильевича. Однако оставался еще Иван Можайский, правая рука Шемяки, злодей и разбойник, пленивший великого князя в Троице-Сергиевом монастыре.
«За многое неисправление» князя Ивана Андреевича пошел великий князь к Можайску. Князь же Иван, услышав об этом, испугался. Мучимый своей нечистой совестью и гонимый Божиим гневом, покинул он город свой и побежал с супругой и чадами в Литву. Великий же князь пришел к Можайску, и все горожане предались ему без всякого сопротивления. Посадил Василий в городе своих наместников и сам возвратился к Москве, повсюду мир утверждая и о всех благодарение Богу воздавая. Тогда в державной Русской земле упразднилась всякая крамола и враждование. С того времени меньшие князья были послушны старейшим, а те, Богом укрепляемые, со славой и честью державствовали. И хотя безбожные варвары-татары много раз покушались пленить Русскую землю и обложить христианство, но вседержи-тельная десница Премилостивого Бога всегда вставала у них на пути и посрамляла их, и всегда бывали они побеждаемы.
Ангеле Божий, хранителю мой хороший... моли Бога обо мне(с) (Молитва маленькой девочки)