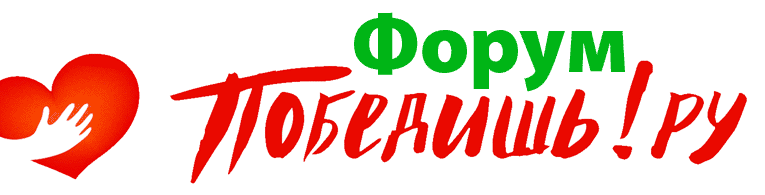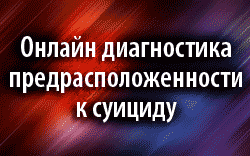Возвращение в рай
Сорокалетие мужчины не празднуют. Не принято. Понятно почему
Мне сорок стукнет через пару месяцев. И вот что выяснилось. Оказывается, на этом переломе можно не только пытаться преодолевать кризис среднего возраста, но и испытывать счастье. Проверено на себе. Вот как это случилось.
Я живу в центре Красноярска, на первых этажах моего дома расположен офис турагентства Рaradise*. Рядом со сталинкой на «Красрабе»**, где проживает мой товарищ Сергей, находится ларек «Рай». Там торгуют чипсами и пивом. Мы живем давно, в женах запутались, детей — не по одному, мы занимаемся всякими делами и становимся трусами.
Мы боимся искать счастье — вот что я понял, обнаружив как-то себя стоящим в прострации на ступенях магазина, усыпанных бумажными самолетиками, сделанными из школьных тетрадей и страниц учебника ботаники. Я смотрел на самолетики, в большинстве своем уже раздавленные прохожими, и думал, что жизнь закончилась как поток разочарований и началась жизнь после смерти. Уже не очаровываешься, чтобы не разочаровываться, все знаешь обо всем, пережито и испытано все, уже не знаешь, о чем говорить с людьми. С друзьями проще — просто молчишь. В чем смысл такой жизни?
Нет, не так: мы выжили в очень непростых испытаниях и сейчас-то мы должны быть счастливы после всего? А почему мы тогда несчастны? Зачем делать вид, что у тебя все как у людей, лепить горбатого, если предано и забыто все, о чем мечталось в юности, если чувствуешь себя издохшим? И, чувствуя себя издохшим, я побрел к своему-чужому дому, где сияет реклама агентства Рaradise.
Тогда я еще не знал, что изгнанные из рая постоянно ищут возвращения, даже если сами не подозревают о своих поисках и давно махнули на себя и собственную жизнь рукой. Рефлекторно, наверное, ищут.
Прошло что-то около месяца, и в моей жизни и в жизни моих друзей случилась река Верхняя Денежкина. Это Крайний Север, по Енисею ниже Курейки, за сталинским пантеоном и линией полярного круга. Здесь пути-ходы осетра, нельмы, тайменя. Недалеко от Верхней Денежкиной, впадающей в Енисей, противоположный берег рассекается устьем Боганиды — речки, увековеченной Астафьевым в «Ухе на Боганиде». Рыбацкие пески («плеса», как писал Астафьев) зовутся боганидскими. Кто их так назвал, по-видимому, испытал то же, что я.
Мы въехали на резиновой лодке с японским мотором из Енисея в устье Верхней Денежкиной (Денюшки). И — увидели рай. То есть я и мои друзья — грешники, конечно — реально оказались почему-то в раю. Изменилось вдруг все: воздух, вода, ландшафт. Проводимость, текучесть, жесткость. Соотношение зеленого цвета с серым, воды и неба. Я думал, такое можно только придумать, сочинить — в действительности вот так все не может сложиться: такая зеленая и гибкая трава, тишина, камни, такое сочетание цветов и такие пропорции, такие величины и размеры, свет, деревья. Река Бога. Прямо какая-то литературщина, в жизни так не бывает.
Но так было. Я кидал спиннинг и забывал крутить катушку. Замирал и смотрел, смотрел. Пенек с глазами. Проходил несколько шагов, поднимался чуть выше по берегу и в шоке останавливался вновь, душа переполнялась таким восторгом, который никогда прежде она не знала. Видимо, когда сильно красиво — это напрягает. Боишься, что душа просто разорвется. (Ничего, что я тут столько слюней развел? Потерпите — не могу сейчас без них.) Потом мы сели на лодку и поплыли против медленного течения вглубь. Убедившись в том, о чем думалось, я сказал Сереге: «Думаю, рай именно так и выглядит, только разве без комаров и мошки». Серега молчал, а когда он не согласен, он не молчит.
Такое дело: только в тот день я сделал 400 снимков, но ту реку снимать не стал. Странно, потом анализировал я, ведь до этого снимал именно виды природы. Я вообще не люблю снимать людей, за исключением некоторых, очень немногих, не люблю живопись с присутствием людей, музыку с присутствием человеческого голоса, и по телеку предпочитаю документалистику о животных и природе. И лучше всего чувствую себя в одиночестве. (Так было не всегда, в последние годы.) Так вот, там, на Денюшке, я ощутил, как меня наполняет счастьем, и при этом точно понимал, что так происходит в том числе и потому, что рядом были дорогие мне люди. Они мне всегда дороги, как бы ни складывалась их и моя жизнь, но их присутствие в моей жизни никогда, в общем, не одаривало счастьем, они были просто ее обязательным условием, как наличие воздуха и воды. А тут, на Денюшке, счастье накатывало еще и потому, что они просто были рядом, как и долгие годы до этого.
Да, возвращаясь к попыткам остановить мгновение: у меня была камера, вокруг был потрясающий объект для съемок, но я — не то чтобы оцепеневший, просто потрясенный — снимать не стал. Смог бы, вероятно. Но не стал.
На той реке мы стеснялись даже разговаривать, молчали все больше. Возможно, еще и затем, чтобы не нарушать покой этих мест. Только Серега сымитировал лай собаки, когда рядом с другим Серегой, шедшим по берегу, затрещали кусты — рядом, очевидно, были медведи. Потом мы повернули обратно, вышли в Енисей — и тут уже чайки хохотали, стонали, гундосили. Вот что еще странно. Покидать Денюшку было не жаль, хотя времени у нас был вагон: здесь, в полуночном краю, сейчас, в короткое сонное лето, ночью светло — полярный день. Днем месяц висел рядом с солнцем, потом оно заходило, но свет оставался блуждать по водам и берегам. Откуда было взяться этой легкости при расставании? Вот уж чего не было никогда. Я бы объяснил откуда — но как? Сказать: счастье было настолько полным, что места для новых впечатлений не оставалось? Нет, не то. Наверное, мужчины, особенно близкого возраста, поймут: представьте, что в эту красивую реку вы вошли как в прекрасную незнакомку. Как бы вам ни было хорошо, на каких бы по счету небесах вы ни летали, утром вам станет еще лучше — когда вы расстанетесь. Просто надо побыть наедине.
А было очень хорошо. И очень продолжительное время.
В общем, мы расстались. Но, послушайте только — это песня! — и вчера, и завтра, и в эти минуты, когда я пишу эти строки, и в те секунды, когда вы будете пробегать их глазами, там, в Эдемском саду в Туруханском крае, все так же и все то же. Те же пейзажи и то же полное отсутствие людей. Разве что медведь вышел ловить рыбу.
Не знаю, что происходило внутри моих друзей. Мы не разговаривали. Потом уже, на абсолютно в тех местах безлюдном Енисее, в зареве заката, когда светом пропитанный, как человек кровью, воздух покачивался, я сказал, что мы в те мгновения — единственные в мире наблюдатели этого уголка планеты, этого зарева.
Я и сейчас думаю об этом. Вот нас больше шести миллиардов, мы далеко не самые достойные особи из них, но наши глаза были единственными, что в тот день впитывали ту красоту. Я подумал бы, что Бог сделал описку, но он ведь не может. И раз я был допущен в это место, на реку Бога…
Вспомнилось вот о чем: воробьи — это, конечно, не дети голубей, а стерляди — не мальки осетров, но ведь похожи, крутятся рядом, едят рядом, и в детстве я думал, что из воробьев вырастают голуби, а из стерляди — осетры. При этом тогда, в свои безмятежные дни, никогда, насколько помню, не думал о том, что люди — это дети Бога. Я так думаю сейчас, после посещения Денюшки. Наличие нас, нашей компании в том месте — прямое доказательство этого тезиса. Несложного, но впервые мной понятого ярко и отчетливо — насколько это возможно. Совсем неплохо, что я до этого наконец дожил. Поздно, конечно. Но, судя по всему, многие так и ложатся в землю, этого не испытав.
Разбираясь в магии собственной жизни, я вспомнил лишь одно столь же яркое и грандиозное открытие — оно случилось в отрочестве. Мне открылось тогда, что я абсолютно такой же, как все. По-моему, осознание этого факта сопровождалось горьким сожалением. А теперь понял, как это — такой же, как все, — много значит. Я — такой же, как все, — могу быть счастлив безмерно и посещать небо на земле.
Лучшее, что было в моей жизни до этого, — если мерить яркостью счастья — возвращение домой из армии. Те минуты в сизом дыме тамбура, те шаги по перрону. Самое долгое счастье. Потом — дыра. Ничего. Были, конечно, моменты: ее силуэт в ярком солнечном свете, бьющем в глаза из окна. Или: ее родинка на плече, голые ноябрьские ветви, стучащие в окно, в луче света из приоткрытой двери появляется и исчезает лицо нашего сына, качающегося на качелях и уже заснувшего со слезой под левым глазом. Или: я с ним гуляю и вижу на его шапочке первый снег — он летит из голубого и солнечного неба. Но это — мгновения; ощущение счастья, даже когда рождались сыновья, улетучивалось быстро. Так, чтоб счастье затягивалось на два, три, четыре дня, — не бывало…
Когда вернулся из армии, в 20 лет, радостью было спать на свежих простынях, ощущать заново вкус кофе, качественных сигарет, ловить на себе женские взгляды, читать свежие газеты, наслаждением было просто это пестрое движение вокруг тебя. В 39, на енисейском берегу, где никакой пестроты и никакого движения, радостью снова стали самые простые вещи, о важности которых никогда не думал: одежда — любая, как защита от комаров, еда — любая, просто зажаренная на костре, даже без соли, только что пойманная рыба. Чистая вода — в которой крестили тебя, твоего отца, деда, миллионы других, кого ты никогда не видел, но этой воды у тебя много, ее никто не отнимет, она навсегда одна и та же, ты каждый день пьешь ее и купаешься в ней. Сама возможность думать, вспоминать, сравнивать: скажем, эту траву, эти волосы земли, что на Денюшке, ведь я уже видел. У Тарковского. Под водой — в «Солярисе», гнущуюся под ветром — в «Зеркале» и «Сталкере». Он, видно, тоже был на реке Бога и все видел.
Если б у меня было, как у кошки или идиотов, девять жизней, я бы в одной из них тоже снял фильм. В сорокалетнего мужика, скажем, бьет молния, ну или он разбивается на машине. Выйдя из комы, он помнит только то, что случилось с ним до 18 лет. До ухода в армию, все изменившего. Он бы в свои сорок искренне обладал убеждениями себя же 17-летнего, любил бы ту девушку, свою одноклассницу, которой теперь не было рядом, он бы чувствовал себя радикалом и революционером. Выходки — соответствующие. А вокруг него по-прежнему было то, чего он, давно ставший конформистом, достиг к своим сорока. И совсем другая женщина, незнакомые ему собственные дети, нелюбимая работа. И он не знал, что делать на работе (зато к нему вернулся поэтический дар, загубленный позже в армии), он не помнил сокровенную и весьма оригинальную эрогенную зону у жены, не узнавал любовницу. Когда другие ему взялись рассказывать о нем, какой он был, эти новости повергли его в депрессию. Он не мог понять, как он стал таким уродом. И ему очень нравился он сам в 17 лет. Потом память к герою вернулась, но ему уже эти новые знания и опыт были точно не нужны — и он валял дурака, с удовольствием руша свою жизнь, расставаясь с ненужными ему людьми. И был счастлив. О развязке фильма умолчу — вдруг у меня все-таки появится шанс его снять.
Вернувшись с Денюшки, привязав резиновую лодку к кораблю, мы завелись и пошли к Игарке, но ушли недалеко, пару миль — в три ночи бывший пограничный катер, теперь почти каждое лето доставляющий нас на Север, попал на мель. Было светло. Вспомнился такой же ночной свет в армии, в учебке, — от гор снега под окнами казармы. Этот отраженный свет тоже был тогда счастьем — ночью можно было прочитывать по странице-две книжки. Чтобы не забыть буквы.
На мели мы простояли почти сутки. Снова выбрались на «резинке» на берег, разожгли костер. Мой друг, хозяин корабля, отправился босиком бродить по чистейшим пескам в одиночестве, потом сказал: «Какое все-таки ох… чувство — идти по чистой планете!».
Так случай нам подарил еще день, когда счастье не отпускало, — это я сейчас анализирую то свое состояние, тогда же мне, да и, похоже, моим друзьям просто не приходило в голову рефлексировать, мы все жили сугубо глазами, ушами, носами, впитывая окружающий мир.
Наверное, столь же или по-другому красивых пейзажей на планете не так уж мало. Наверное, можно найти и столь же безлюдные. Дело, конечно, в нас самих, в том, что творится у нас внутри. Чтобы совпали те миллиарды импульсов, что посылает природа внутри тебя и вовне, чтобы это сочетание вернуло тебе покой, детскую способность летать, ничего не бояться и быть безбрежно счастливым.
Помню, лежал на песке и глядел в небо, засыпая, подумал, что если б жил здесь постоянно, среди такого открытого большого неба, на этом островке земли посреди неба тверди лишь 4 процента, 96 — небо, составил бы альбом, посвященный исследованию августовских облаков и их влиянию на людей, рыб, птиц, зверей и ангелов. Удобно, фотошоп не нужен: ни один снимок, откуда бы ты ни снимал небо здесь, не будет перечеркнут проводами.
Потом купались. Корабль наконец снялся с мели, отошел на фарватер, и мы — за линией полярного круга — ныряли с борта в Енисей (так и до этого было почти каждый день, ныряли и с высоченных бортов встретившихся нам барж); облака, отражающиеся в Енисее, дробились и распадались на брызги; прежде в небе за день можно было заметить хотя бы след от реактивного самолета — единственный признак цивилизации, в тот день я тоже было его заметил, но потом присмотрелся и понял, что это так причудливо вытянулось облако. И не было ничего от того мира, что есть за тысячи верст отсюда.
Во что, скажите, мы превращаем свою жизнь, если счастье испытываем, когда от нее, привычной нам жизни, не остается и следа? Во что мы превращаем себя, если и мы становимся лучше, и нам самим становится лучше, стоит неделю прожить без газет и телевизора? Радиоприемник был самой бесполезной штукой, взятой нами, — он не ловил ничего. Да, собственно, мы особо и не стремились услышать голоса из того мира. И, вообще, думаю, над местом, где река Бога, нет ни одного спутника. Если бы эти штуки висели там, ничего бы я не испытал, ничего бы не получилось. Я, наверное, так и продолжал бы пребывать в уверенности, что буду гореть в аду, а весь этот мир совсем скоро погибнет.
Напоследок нам устроили концерт радуг. Их было много. Они дугами перекинулись с берега на берег, от Верхней Денежкиной к Боганиде. Потом зажглись где-то на далеком противоположном берегу.
Это не все, что я увидел и почувствовал, но, пожалуй, это все, о чем стоит писать.
Когда вернулись в город, крепко выпили, и кто-то из нас (может, я сам) сказал: «Раньше я думал, что все главное в жизни уже было. Ан нет». Счастье отпустило дня через четыре.
"Новая газета» Алексей Тарасов
соб. корр. , Красноярск
P.S. Вот бы эту Денюшку своими глазами увидеть, с удочкй посидеть. Кто со мной?